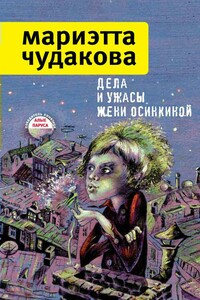Новые работы 2003—2006 | страница 57
«Из ста человек в зале не менее восьмидесяти знали Корчагина, и когда на краю рампы появилась знакомая фигура и высокий бледный юноша заговорил, в зале его встретили радостными возгласами и бурными овациями. ‹…› Под крики приветствий Корчагин спустился в зал…» (с. 199).
Войдя в литературный контекст и оставшись в нем, этот литературный ход послужил ступенью к будущим внутренним монологам Юрия Живаго («Единственно живое и яркое в вас – это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали…»),[245] так раздражившим членов редколлегии «Нового мира» в 1956 году.[246]
То сосущее чувство, которое возбуждает эпилог романа Булгакова (описание Москвы, опустевшей после того, как Мастер покинул ее), – оно в какой-то степени возникает и на многих страницах романа Островского, где, вопреки признаваемой автором коммунистической догме, именно утверждается: незаменимые – есть.
Другая интенция направлена к трагедийности. В 1936 году Пастернак скажет о том, что накапливалось в течение нескольких лет:
«Мы всё воспринимаем как-то идиллически ‹…›. Я говорю не о лакировке, не о прикрашивании фактов, это давно было сказано ‹…› я говорю о внутренней сути, о внутренней закваске искусства. ‹…› По-моему, из искусства напрасно упустили дух трагизма. ‹…› Я без трагизма даже пейзажа не принимаю. ‹…› Что же сказать о человеческом мире? Почему могло так случиться, что мы расстались с этой если не основной, то с одной из главных сторон искусства?».[247]
В романе Островского смерть главного героя – не в тексте, а за текстом. Это – для тех поколений читателей, кто взял роман в руки уже после смерти автора, хорошо о ней зная. Для них это был роман о героической жизни и гибели. Но и в самом тексте романа немало смертей или казней – в том числе юных девушек. Гибель – один из важных мотивов романа. В обширной литературе о Гражданской войне этот мотив был привычным – смерть в бою или от руки палачей. Но ожидаемая смерть главного героя романа – иная.
Очерк М. Кольцова в «Правде»[248] пророчил неминуемую героическую смерть парализованного, без смягчений описанного Островского. Но и на протяжении всего романа герой то и дело оказывается на грани смерти – и воскресает к жизни. Последние страницы романа – трагедийны (хотя самые последние слова – «… возвращался в строй и к жизни»). Это – как раз то, чего, по Пастернаку, не хватает в современной литературе: в 1936 году, когда он это констатирует, не хватает в еще большей степени, чем в начале 1930-х. Эту нехватку восполняет и оставшийся неизвестным в те годы роман Булгакова с трагедией жизни Мастера, прямо сопоставленной с казнью на Лысой Горе. И читатели печатного текста второй половины 60-70-х годов уже