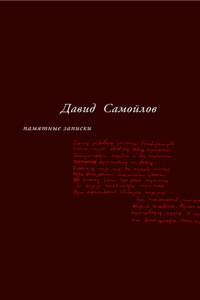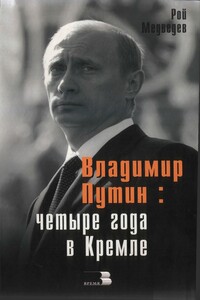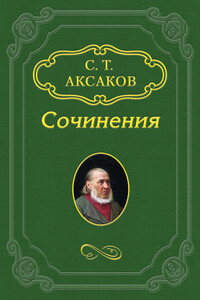Новые работы 2003—2006 | страница 35
В конце 1953 года в публичную печатную речь эпохи вошло, с неофициозной стороны, слово «искренность» – в применении к литературе как указание на необходимое ее качество. Можно без преувеличения сказать, что слово, выбранное в качестве ключевого в названии большой статьи,[116] казалось почти иноязычным, впервые вводимым в отечественный обиход – в качестве определения такого официального, регламентированного дела, как литература. До сих пор это слово в живом советском употреблении принадлежало, во-первых, к бытовому языку, во-вторых, к протокольному, достаточно герметичному языку партийной жизни – исключали из партии с формулировкой «за неискренность». Теперь оно стало означать, с одной стороны, – освобождение от регламента. С другой же, в более узком и более приемлемом для печатного литературного процесса значении – попытку вернуться к искренней (в отличие от официоза), близкой к фронтовой, адекватности слова – действию, вере в идею революции.
Коллизия была зафиксирована Наумом Коржавиным еще в стихотворении 1944 года (писавшемся не для печати):
«Стихи о детстве и романтике»[117]
Именно в связи с этими поисками искренности и поэтов и их читателей развернуло в 1958 году к Маяковскому – к открытому летом того года памятнику, к личности поэта и его стиховой традиции. Под этим именно знаком и стали собираться у памятника для чтения и слушания стихов («Спорили об искренности в литературе…» – свидетельствовал впоследствии В. Осипов[118]).
В 1955 году Леонид Мартынов, поэт старшего поколения (на пять лет старше Твардовского, на десять – Симонова, почти на двадцать – Булата Окуджавы), вернулся – после десятилетнего остракизма (которому был подвергнут из-за «Прохожего»[119] (1935, 1945), в год второй – не удавшейся, как и первая, – попытки оттепели) – на страницы печати, вернулся во многом как новый поэт нового времени. Его стихи стали одним из нескольких самых заметных литературных фактов середины 1950-х.