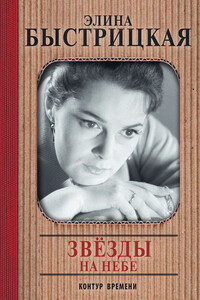Воспоминание о России | страница 31
С. И. Танеев очень любил вообще «дружественно поиздеваться» и состроумничать к случаю, иногда даже перехватывая через край в этом. Чайковский плохо играл на фортепиано и не любил этого делать, особенно при посторонних — поэтому Танеев обычно сам играл его новые сочинения — в смешной позе, навалившись своим толстым телом на фортепиано и впившись близорукими глазами в рукопись. Помню раз такой диалог: Петр Ильич принес С. И. Танееву семь новых романсов.
— Вот, Сергей Иванович, — я кое-какую дрянь принес.
— Ну, давайте сюда кое-какую дрянь! Танеев берет рукопись:
— Почему же семь? Вы всегда по шести сочиняли. И, внезапно и преждевременно разразившись своим характерным, всей музыкальной Москве знакомым икающим «ослиным» смехом, Танеев выпаливает:
— Вы всегда «дюжинную» музыку писали, Петр Ильич, — а вот в коем-то веке написали «недюжинную»!
Петр Ильич не обижается: он привык к стилю танеевского остроумия. Он вообще о своих сочинениях имеет всегда скорее преуменьшенное мнение, а никак не преувеличенное: он за них точно всегда извиняется и сам начинает с того, что ему «не удалось» то и то.
То время было эпохой создания им его последних, может быть лучших произведений.
Тогда писалась «Пиковая дама». Пятая симфония, «Спящая красавица», «Иоланта», «Щелкунчик» и «Патетическая симфония» еще не существовали. Чайковский входил в расцвет своей славы, еще не мировой, но русской, — в сущности, он и был единственным признанным и популярным композитором — ведь в эти годы «Могучая кучка» — знаменитая «пятерка» (Балакирев. Кюи, Римский-Корсаков, Бородин, Мусоргский) далеко еще не получила признания даже в Петербурге, не говоря о Москве. Должен признаться, что в это время я никак не воспринимал Чайковского как «великого человека», гения и т. п. — он для меня был просто милый Петр Ильич, который бывал у моих родителей в доме [017], который «хорошо» сочиняет музыку, которого нежно любит Сергей Иванович, которого я обожал и уважал и который в известном смысле был для меня большим авторитетом, более мне импонировал. В этом «обыденном» восприятии Чайковского немалую роль играло его простое обхождение, его застенчивость и тихая рассеянность, его постоянные «авторемарки» к своим сочинениям, как «дрянь», «ерунда» и т. п. — даже его постоянные на моих глазах обращения за советами к Танееву. В 1892 году он мне подарил «на память» манускрипт своей Пятой симфонии, которую он незадолго до того провалил под своим собственным дирижерством (Чайковский был очень плохим дирижером из-за своей застенчивости и деликатности — впрочем, в этом он не отличается от всех почти других русских композиторов). Рукопись была разорвана почти пополам, и на заглавном листе красовалась надпись красным карандашом поперек: «Страшная мерзость». Вручая мне этот памятник своей неврастении, Петр Ильич ласково сказал: