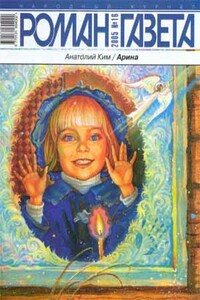Отец-лес | страница 65
И вспомнила одна ель возле Охремова болота, что она родом от того выворотня, в ямине которого жил отшельник, всю жизнь произносивший про себя одну и ту же коротенькую молитву: «Господи, Иисусе Христе, прости меня и помилуй, убийцу грешного», — и никто, кроме деревьев, не слышал этой молитвы, ибо лесной монах с людьми не общался и по данному в молодости обету не отверзал уст для разговора. Ель сообщила, что, пожалуй, этот человек был готов к тому, чтобы не посягнуть на жизнь своего ближнего. Но ей возразили папоротники, помнившие на своих узорчатых листьях, тех, что истлели сотни лет назад, несколько капель густой разбойничьей крови.
Тогда-то, во времена оны, богобоязненный инок Ефремий шёл много дней в глубину Мещеры, чтобы в нехоженых дебрях среди болот уединиться от мирской молвы и устроить пустынное житьё — с благословения своего наставника, преподобного отца Корнилия. И на берегу лесной речонки, недалеко от деревеньки Ушор повстречался ему лохматый разбойник Пахом Куря, одичавший и злой, как медведь-шатун. Уже много дней подряд Куря не видел человеческой пищи. Сверкнув чёрными и сырыми, как мокрые уголья, глубокими глазами, разбойник с невнятным урчанием двинулся навстречу оробевшему монашку, по пути давя размочаленными лаптями грибы, густо растущие на лесной дороге. Монах же совершенно остолбенел от полонившего душу его ужаса, наблюдая за небывало откровенной мерзостью в выражении человеческого лица, которое, заросшее чёрной шерстью бороды и волос, радостно светилось в предвкушении близкого удовольствия.
— Нябось, цёра,[2] — почти ласково прогудел разбойник, останавливаясь перед иноком, и из чёрной руки Пахома выпала и закачалась на сыромятном ремне тяжёлая железная гирька. — Нябось. Брось пешу-то, — мотнув косматой бородою, указал он на страннический посох в руке Ефрема.
Иноку надо было немедля что-то сделать или сказать могучее правое слово, способное пресечь дикую волю привычного душегуба… Монах часто слышал по пути разговоры о том, что вблизи Касимовской купеческой дороги пошаливают лихие лесовики, но он упорно шёл вперёд, помня о своём грядущем подвиге, о защите Господней, молитвенной, и о благословении старца Корнилия, разрешившего наконец-то, после упорных просьб Ефрема, отшельническое житьё своему послушнику…
Было какое-то глубокое сомнение в наставнике относительно своего ученика — почему Корнилий и столь неохотно выслушивал на протяжении многих лет пылкие речи инока о его желании самого тяжкого и строгого подвига во имя Господне. И в минуту смертного страха вспомнил Ефрем недовольную морщину на высоком залысом лбу дорогого ему старца. «Брат Ефремий, — в последний раз говорил он, провожая ученика, — словно бы не своей волею отпускаю тебя; но сия воля, которую чую душой, сильнее моей воли и слабого ума моего. Иди… Но помни всегда, что, даже питаясь кореньями и акридами, ходя босиком по каменьям и снегам, не угодишь ты Господу нашему, коли не одолеешь в душе своей лукавства и гордыни. Уже семой год, как ты пришёл в мою пустынь из Кириллова Белозёрского, и скажу не погреша, что изо всех братии, кто являлся спасаться со мною, ты усерднее прочих в молитвах и радив во трудах тяжких. Братия, знай, уже давно роптать зачала, мол, Ефремий бесу гордыни предался и хочет всех превзойти в подвиге пустынном. Я же всех увещевал, пенял, что они сами предалися соблазну и слово их есть завиство да мелкая суета сует. Нам ли завидовать друг другу, братия? Чего же ради мы удалились от мира, от князей, бояр да татар да среди блат и мхов диких себя похоронили? Словно светильник, отгороженный рукою от ветра окаянного, должны мы беречь в наших душах Христово пламя. Коли в миру людском царят алчба да злоба, а князи казнят боле, чем даже ордынцы, бояре за-ради прокорма своего грабят малых смердов, словно тати лихие, — то пущай мы унесём, каждый с собою, хоть малый светильник Господень в глухомать лесную, и там сбережётся дух наш в молитвах и кротком житии, в смирении великом.