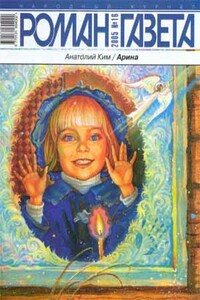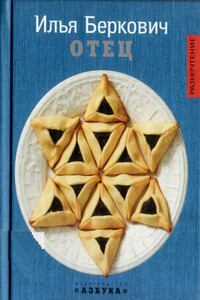Отец-лес | страница 107
Старший Бёмер, практик геноцида, не признавал «Орхидеи» главным образом за то, что газ вызывал у материала такие сильные рвотные спазмы, что происходил саморазрыв тканей в дыхательных путях лёгких, и трупы все оказывались до безобразия измазаны кровавой блевотиной. К тому же, чтобы привести порошок в действие, надлежало полить его водой, что требовало дополнительных перестроек в существующей технологической цепи, то есть надо было что-то придумывать, чтобы вода, подаваемая в душевые, каким-то образом попала на химикат.
Ф. Бёмер предписывал раздавать входящим в камеру подопытным номерам бумажные пакетики в руки, под видом мыльного дизпорошка, на что Б. Бёмер изрёк: «Всякие психологические уловки я дерьмом считаю, Ф.! В нашем деле нужны только механические действия, прямо ведущие к цели. И лучше всего подходит железный крючок!» Он имел в виду простейший инструмент: отпиленный кусок пожарного багра, которым его любимый палач пользовался для пробивания черепов у лагерников, омертвело застывших в шеренгах на широком утоптанном плацу.
Я вошёл, зацепившись о высокий металлический порог большим пальцем правой ноги, которая была у меня не совсем послушной. Опухшее ниже колена берцо было гораздо толще, чем иссохшие, будто жерди, и словно удлинившиеся бёдерные части мои, где раньше, при жизни, красовались здоровые мускулистые ляжки, поросшие чёрными шерстистыми кущами волос — они одни и остались, длинные звериные полосы на костлявых, без мяса, обессиленных ногах. Вокруг меня стояли, тесно притиснутые костями к костям, удивительно похожие друг на друга, гладко обритые человеческие существа, с такими же глубокими провалами меж рёбер, как и у меня. Глаза у всех были одинаковыми, они не видели того, что было вокруг, вблизи, рядом, не видали других глаз, в которых также застыло глубокое внимание к сути того, что происходит. Каждая пара этих широко раскрытых, неподвижно замерших глаз жила самостоятельной жизнью последнего сверхнапряжения уже бесполезной человеческой души. Она у всех, обритых и заголённых для умерщвления, перешла в глаза, светилась в зрачках. Но это было полное бессилие огней, горевших в виду друг друга, — глаза гениев, охваченных вдохновением, были так же обречены на позорнейшую безответность Бога, как и сверкавшие чёрным огнём огромные глаза непросвещённого цыгана, который последним из нас вошёл в камеру — сейчас, только сейчас мне стало ясно, как и всем, сжатым стенами газовой камеры в плотный тюк скелетов, что всё уже выяснилось — вот сейчас, сей миг. И осталась та же изначальная тоска и правда: Я ОДИНОЧЕСТВО, — и больше нет ничего другого.