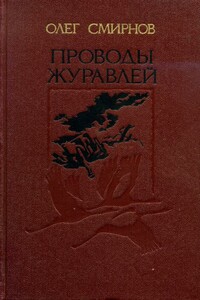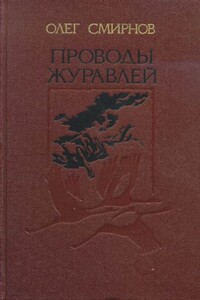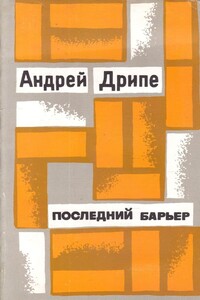Обещание жить | страница 94
Команду подал Ротный, и Макеев не стал ее повторять. Хотя надо бы. Ничего, и так всем известно, что пехоту отсекают от танков. Им бить по автоматчикам, с танками будут справляться артиллеристы и петеэровцы. Да и танкисты, наверно, ударят из засады.
Макеев вновь торопливо-шаркающей походкой прошелся по обороне, заглядывая в ячейки и перекидываясь словами с солдатами. Он говорил им какие-то общие, дежурные слова ободрения, они отвечали в том же духе: ладно, мол, порядок. И опять уловил — пусть и кратковременно — разлад между ним и солдатами, не разлад, но холодок, отчужденность — это определенно. Он же хочет как лучше. А они не хотят? Почему? И в сотый раз оборвал себя: у него нормальные отношения с подчиненными, а он выдумывает черт те что. Мнительный. Проще — психованный.
Солдаты и особенно его надёжа — отделенные командиры — держались спокойно, уверенно. И буднично. Некоторые наблюдали за боем, другие топтались в ячейках, попыхивали цигарками; Филипп Ткачук грыз сухарь; старикан Евстафьев сосал кусочек сахару, облизывался, как кот; сержант Друщенков укорачивал ремешок каски, увидав Макеева, улыбнулся ободряюще. Так вот оно что: они его ободряют!
Спасибо. Я хочу, чтобы и у вас и у меня сложилось все хорошо. Чтобы осколки и пули помиловали нас. И чтоб исход боя остался за нами. Во имя этого мы должны убивать и убивать. Как, однако, странно: фронт далеко на западе, а здесь вот добивай этих, из окруженной группировки, теперь тут для нас фронт.
12
С наблюдательного пункта и без стереотрубы было видно, как танки и самоходки с черно-белыми крестами на бортах увертливо шли по полю. Перекатывая желваки на скулах, Звягин кричал в телефонную трубку, прося огоньку, и одновременно требовал по рации авиационной Поддержки. Сгорбленный, с мешками в подглазьях, плохо побритый — па желтой мятой коже седая щетина, — он напоминал больного, и штабисты справлялись, здоров ли. Он отвечал, что да, здоров, но бессонница замучила. И впрямь эту ночь не спал. Но что ему раньше бессонные сутки? А сегодня как больной. Да не в бессонье суть — в думах. Они измучили его, и беспощаднейшей, безысходнейшей была: Лешки нет. Сутки он прожил с этой мыслью. И сколько еще проживет?
В эти минуты Звягин старался думать не о сыне, а о бое: как он завязался, как разворачивается, как кончится. Ну, кончиться он обязан одним — разгромом противника. Но Звягин понимал, что гитлеровцы будут переть напролом, не считаясь с потерями, выхода у них нету. Есть, конечно, — сдаться в плен. К сожалению, о капитуляции говорить бесполезно. Дивизионные разведчики добыли «языка», свеженького, тепленького, и комдив немедля ознакомил Звягина с его показаниями. «Язык», обер-ефрейтор из батальона связи, заявил на допросе: командир окруженной группы генерал-лейтенант Гейнц Кюнтер приказал во что бы то ни стало пробиться из окружения, огнем и колесами пройтись по отбитым у русских деревням, отомстить за павших товарищей и выйти к своим, на запад. В приказе были слова: «Свобода или смерть во славу фюрера!», — и Звягина не надо было убеждать, что это не пустая фраза, что немцы будут драться насмерть.