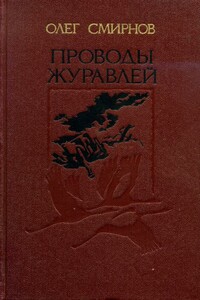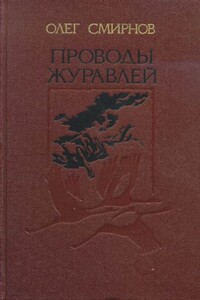Обещание жить | страница 64
И никто этого вокруг не знает. Ни Карякин, ни Макеев, ни кто-либо другой. Они живут, как и жили до этого. А Звягин жить, как раньше, не сумеет, все взрыто, перевернуто, раскидано, уничтожено в нем самом.
Подписанные им бумажки — вести о смерти — с фронта расходились по всей стране, сегодня эта весть пришла к нему на фронт. Там сообщалось о чужих людях, тут — о сыне. Похоронное извещение Маша ему не переслала, оставила у себя, пересказала содержание: «Пал смертью храбрых…» В танковой атаке. Под селом Богодуховка. Захоронен в братской могиле на окраине этой Богодуховки.
Его Лешка погиб! А все живут, неся свою повседневность, и он будет ее нести. Вся разница в том, что он, прежний, умер вместе со смертью сына, они же останутся прежние, обычные, всегдашние.
— Пошли, Карякин.
Грузный, неповоротливый, угодливый Карякин. Он не переменился. А возможно, Звягин несправедлив к нему? И вообще: почему адъютант обязан перемениться? Не обязан. Косится на обмотанную платком руку полковника Звягина…
С опушки наносило дымок полевой кухни, и казалось, что он пахнет не гарью — пшенной кашей, хлебом, свежезаваренным чаем. Раздувая ноздри и супя белесые бровки, Ткачук развязывал горловину вещмешка, извлекал котелок, ложку, кружку — все это трофейное, алюминиевое, начищенное до жаркого блеска, — любовно расставлял посуду на пеньке. И так поставит и этак. Эта любовность и одновременно сосредоточенность, деловитость свидетельствовали о том, что Ткачук готовится к приятному и одновременно жизненно важному, ответственному действу. Таковым, впрочем, и был прием пищи в завтрак, обед и ужин. Последний наиболее приятен: на боковую заваливаешься не с пустым брюхом, и во сне голод не так донимает; после же завтрака или обеда надо бодрствовать и противиться молодому, здоровому аппетиту. Ткачук не наедался казенной нормой, и в брюхе неизменно посасывало.
На соседнем пеньке восседал Евстафьев, подкручивал усы, покуривал длинную и тощую самокрутку, в которой бумаги было, пожалуй, побольше, чем махры. Евстафьев курил с видимым удовольствием, жмурясь и с каждой затяжкой осматривая цигарку: как скоро уменьшается. Но это не огорчало Евстафьева: на коленях кисет, надорванная газетка, выкурит эту — свернет новую. И опять длинную и тощую. Это похоже на самообман, однако солдат предпочитает две тощие самокрутки одной толстой. Все ж таки две, а не одна!
Ткачук говорит Евстафьеву:
— Дядя, а к ужину кто будет готовиться?