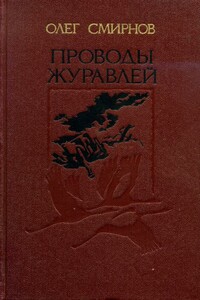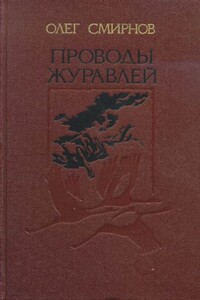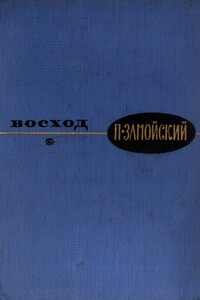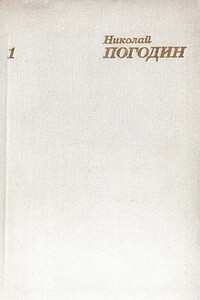Обещание жить | страница 44
Макеев смотрел вверх: у вершины конуса ветки были набросаны жидковато и брезжил свет. Макеев вглядывался в этот свет, ждал, что он усилится и озарит что-то, недоступное покамест глазу. Но свет брезжил по-прежнему, не усиливаясь, и Макеев устало вздохнул. Да, он устал. И болезнь сказывается, и марш дает о себе знать, и еще есть некая первичная причина, имя которой война. Уже два года он на войне, двигаясь по маршруту, с коего не свернуть: фронт — госпиталь — фронт. Впрочем, можно свернуть: к могиле. Скинуть бы эту усталость, передохнуть. Каким только образом? Захотеть, напрячь волю, приказать себе?
В соседнем шалаше взрыв хохота, как взрыв гранаты — внезапный, оглушительный, от него шалаш может развалиться. Отхохотав, голоса забубнили. Макеев поморщился и перевернулся на живот, и ветки еще острей кольнули в грудь, в подбрюшье.
Развеселые соседи разбудили Евстафьева и Ткачука, дремавших в одном шалаше с Макеевым. Старикан завозился, закряхтел, закашлялся. Ткачук зевнул, сказал:
— Бухтишь, как чахоточный. И чего таких берут на войну?
Евстафьев, не обижаясь, ответил:
— Стало быть, пригодился, коли мобилизовали. Воюю. Не хуже иных прочих. А что кашляю — извиняй, курю сызмальства, легкие продымлены…
— То-то что продымлены! А мне за тебя пулемет переть… Сидел бы в тылу, на печке, со старухой своей.
— Сидеть в тылу не дозволила бы совесть. Не мобилизовали бы, добровольно пошел, понял?
— Как не понять! Патриот…
— Патриот. И не скалься, не злобствуй, зазря себе кровь портишь.
— Бачьте, люди добрые, как он радеет за меня! А когда пулемет тащить заставили, так тут он не беспокоился о моем драгоценном здоровье.
— Я бы и сам нес, да лейтенант приказал.
— Не оправдывайся!
— Я не оправдываюсь, я пытаюсь растолковать тебе что к чему.
Они говорили вполголоса, чтобы не привлекать внимания Макеева, — Ткачук говорил с тягучей, ленивой злостью, Евстафьев тоже лениво, но спокойно, добродушно. Макеев прислушивался к их разговору, однако мешали стоны сержанта Друщенкова. Часто стонет во сне Харитон Друщенков.
Помолчав, Ткачук сказал:
— Простачком прикидываешься, папаша.
— Никем я не прикидываюсь, парень, — ответил Евстафьев, тоже помолчав. — Какой есть, такой и есть.
— Смирненький!
— Зато ты трезвонишься. Баламутишься. А ты терпи жизнь-то.
— Терпи жизнь! Философ…
— Терпи, — убежденно повторил Евстафьев. — Терпение и труд все перетрут, слыхал небось присловье?
— Ого, ты еще и знаток пословиц и поговорок. Фольклор, народное творчество, лапоть ты березовый! — Ткачук засмеялся, в горле будто забился клекот. — Откуда выискался? Давно такой?