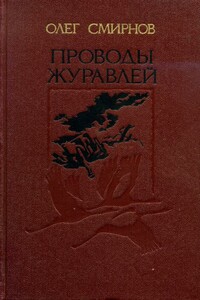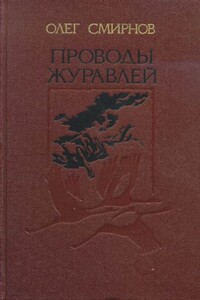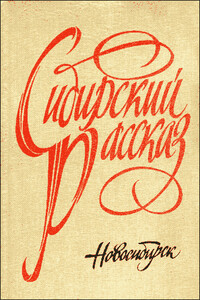Обещание жить | страница 28
Оттягивая момент, когда нужно будет встать и идти, Макеев прислушивался к тому, что говорили солдаты. Всяко говорили. Про то, что каша была сухая, повар, видать, прикарманил маслице, это уже не впервой, схватить бы за руку. Что марш нынче был тяжкий: лето, солнце, жарынь. Какой-то завтра предстоит? Что устали до чертиков, вымотались, спать охота. Когда отбой будет? Что фрицы драпают, но как бы не угодить в засаду, не угодить под кинжальный огонь — и это случается на войне. Что старшина обещал подвезти сахар и махорку, да не подвез, приходится пользоваться трофейным, но курево это — хреновина, не дерет, а вместо сахара — сахарин, чуть-чуть сладенькое — эрзац, у фрицев сплошные эрзацы, заменители, жульничество сплошное. Что шагали по Белоруссии, так дошагаем и до Польши, а там и Германия замаячит, неужто войне настанет капут? Не верится. Разговор неторопливый, с ленцой, и папиросный дым, ленивый, поднимался нехотя, истончаясь, истаивая в сумерках.
Получив разрешение ротного отлучиться (недовольное, ворчливое: «Канителься в санчасти побыстрей, ты здесь потребен»), Макеев потолкался в батальонных тылах, отыскал пожилого, рыхлого, совершенно разопревшего военфельдшера, тот рассказал, где найти санитарную роту. Макеев поблагодарил кивком и пошел просекой, ориентируясь по указателям — прибитым к сосновым стволам фанерным дощечкам: стрела, красный крестик, надпись: «Хозяйство Гуревича». Хозяйство — это санрота, капитан Гуревич — ее командир.
Макеев брел, пошатываясь, кинув вдоль туловища безвольные руки и взбивая сапогами пыль. Видик — слабак, доходяга. На марше этого позволить себе не мог, при визите в санроту сойдет. Тем более темнеет. В лесу слышались голоса, стук топора, бренчали котелки, скрипела бричка, ржала лошадь. Навстречу попался солдатик — казах ли, узбек, — отдал Макееву честь растопыренной пятерней. Он не стал ответно подносить руку к виску, кивнул. В кустарнике, откуда выставлялись стволы сорокапяток, рявкнули: «Рядовой Лукин, шагом марш! В наряд, на кухню!» Затрещал сухолом. Очевидно, этот самый Лукин отправился на кухню чистить в ночь картошку — занятие не из приятных, Макеев по училищу помнит. А может, и не будет Лукин картошку чистить, чем другим займется, на кухне сыщется.
Макеев дошел до конца просеки, свернул, куда указывала стрелка, — в мелколесье; там была разбита брезентовая палатка с красным крестом поверху. У входа в палатку, перед откинутым пологом, восседал на табуретке капитан медицинской службы Гуревич и пил чай из настоящей фарфоровой чашки. Как пил! Мелкими, аристократическими глотками, держа чашку на отлете, оттопырив мизинец. Медик был молод, чернобров и черноус, с орлиным носом, на гимнастерке поблескивали орден Отечественной войны и медали. Известно было, что хороший хирург и не робкого десятка человек. Но Макеев привык (черт знает, когда и как это въелось в натуру) смотреть на медиков, интендантов и прочих, воюющих не в строю, сверху вниз, с неким сожалением об их воинской, что ли, неполноценности.