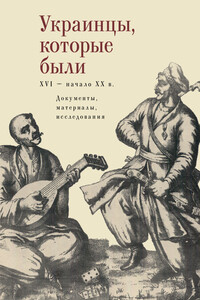Пушкин в 1836 году (Предыстория последней дуэли) | страница 94
После свидания с Геккерном, во время которого Пушкин был принужден выслушивать разглагольствования барона о благородстве его приемного сына, поэт был почти в исступлении. Ему необходимо было выговориться и услышать дружеский голос. И тогда Пушкин бросился к В. Ф. Вяземской, с которой у него давно установились доверительные отношения. Бартенев впоследствии со слов Веры Федоровны записал: "С княгинею он был откровеннее, чем с князем. Он прибегал к ней и рассказывал свое положение относительно Геккерна".[257] Так и в тот день Пушкин, верно, прибежал к ней, испытывая потребность в дружеском участии. Ей первой он открылся и рассказал о своих подозрениях против Геккернов ("Я знаю автора анонимных писем!"). Вот тогда-то у него и вырвались эти слова о мщении. Пушкин был вне себя и заговорил о том, о чем не должен был говорить.
Мысль о мщении возникла у Пушкина гораздо раньше: в те дни, когда он уверился в своих подозрениях. Сопоставление того, что он задумал, с "громкими подвигами" (125) Александра Раевского говорит о том, что речь шла о публичной дискредитации Геккерна, о каком-то громком скандале, который должен был опозорить посланника в глазах правительства и общества. В ответ на удар, нанесенный под маской анонима, поэт намерен был выступить с обвинениями против посланника открыто.
Но разговор с княгиней Вяземской состоялся после свидания с Геккерном. Значит, решившись отказаться от поединка с Дантесом, Пушкин продолжал вынашивать свой план мщения. Дальнейшие события показали, что все это были не пустые угрозы, а выстраданный н обдуманный план.
Внутреннее отношение Пушкина к тому, что происходило, станет нам понятнее, если мы вспомним, что сказал поэт той же Вяземской накануне январской дуэли. Он напомнил ей тогда об этом самом разговоре, состоявшемся 14 ноября: "Я вам уже сказал, что с молодым человеком мое дело было окончено, но с отцом — дело другое. Я вас предупредил, что мое мщение заставит заговорить свет".[258]
Поведение Пушкина не было последовательным. Вероятно, личная встреча с бароном довела в тот день его раздражение до предела. В нем все клокотало. Пушкин не мог смириться с тем, что его оскорбитель останется безнаказанным. Обещание хранить в тайне историю несостоявшегося поединка для самого Пушкина не означало, что он не вправе разоблачить гнусную роль Геккерна-старшего.
Отдавал ли себе поэт отчет в том, что публичное разоблачение посланника так или иначе приведет его снова к барьеру? По-видимому, во время ноябрьских переговоров он не раз бывал в таком состоянии, когда самый решительный исход был для него и самым желанным.