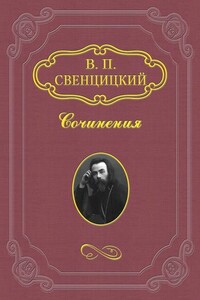Лекции по философии литературы | страница 40
Нет доброй воли к мышлению и естественной любви к истине. Равно как и создание прекрасных текстов — не есть продолжение нашей натуры, не есть какая-то естественная способность… Мы отправляемся на поиск истины, когда ввязываемся в какую-то историю, отдаемся интриге, отвечаем на требование какого-то контекста. Судьба дает нам знак, который выводит нас из равновесия, лишает покоя. И этот знак, знамение — не абстракция, не понятие, а жало в плоти, потрясение всего нашего существования. Если я не удостоверяю это знамение всем своим существом, никакой истины не будет. По Прусту, истина — всегда насилие над мыслью. Но то, что в этом знаке и единичном чувственном впечатлении откроется истина, — дело исключительно случая. Поэтому-то Бергот не Богородицу видит, а пустяковое пятнышко. Истина зависит от встречи, которая нас вынуждает искать правду. Случайность встречи и неотвратимость ответа — две основные прустовские темы. Такая случайность встречи с картиной и непредвиденность пятна на картине — как раз и гарантируют неизбежность, высшую необходимость того, что мыслится. И если все другие встречи со внешними знаками в романе требуют расшифровки, толкования, объяснения, которые сопровождаются разворачиванием знака в себе самом (истина — всегда истина времени), то пятно на картине — коллапс, вспышка, смертельное озарение. Все развертки во времени и множественность интерпретаций Бергот передает… нам. Сам он отдает концы.
Пятно нигде. Бергот его видит, видит так, что это его просто убивает, но на самой картине Вермеера пятна нет. Так где есть пятно? В романном описании? Герой — не субъект, а картина — не объект; и герой, и картина объектны и едины в прустовском описании. И нельзя сказать, что Пруст, убивая своего героя, тем самым спасается сам — делегирует, так сказать, ему свою смерть и психоаналитически изживает это состояние страха и смертельного головокружения бесконечности. «Неисправимый литературный voyeur» Шкловский говорил, что все его способности к несчастной любви ушли на героиню «Zoo» и что с тех пор он может любить только счастливо. Это, конечно, шутка. Шкловский как раз говорит о том, что никакая несчастная любовь не может быть изгнана из жизни счастливой книжною любовью. Это разные вещи. (Легко представить себе Эйзенштейна, занимающегося психоанализом, и совершенно невозможно — Шкловского, Мандельштама или Набокова. Шкловский слишком полнокровно-жизнелюбив и авантюристичен, Мандельштам — не боится смерти и не полагает, что каким-то непонятным образом может долго прожить, а Набоков — сам себе психоаналитик.)