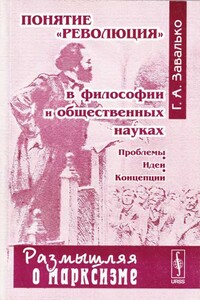Лекции по философии литературы | страница 28
Но я опять про попа и его любимую собаку… Литература есть опыт невозможного. Соломон Михоэлс рассказывал, что в детстве его очень занимала молния. Ему казалось, что молния — это трещина в небе, в которой можно увидеть Бога. Сквозь раздвинутую твердь каким-то немыслимым взглядом можно узреть Творца. Я думаю, что всякий истинный поэтический образ — такая молния.
Если искусство, начиная с Аристотеля, есть возможность, то каким образом она становится действительностью? Действительностью, которая, по мысли Пруста, куда менее доступна литератору, чем область возможного. Ведь возможность сама по себе, казалось бы, не знает бытия. Конечно, возможное приходит в мир с человеком, но значит ли это, что оно субъективно? Связано ли возможное только с нашим незнанием, и исчезает, когда исчезает незнание, или оно каким-то интимным образом связано с бытием? Относится ли возможное к мысли о том, что было, или к реальности того, каким был мир до сегодняшнего момента? В обоих случаях возможное перестает быть возможным и растворяется в субъективных представлениях. Скажем так: оно не является частью ни нашего мышления, ни нереализованного мира. Возможное — конкретное свойство существующей вещи, не реализуемое на уровне субъективности и доксы. Разумеется, возможное состояние — еще не есть существующее, но именно возможное состояние некоторого существования поддерживает своим бытием возможность или невозможность своего будущего состояния. Возможное не совпадает с мышлением о возможном. И наше мышление не может включать возможное в качестве своего содержания. Возможное есть выбор в бытии, а бытие является своей собственной возможностью. Возможное — всегда отсылка к тому, чего нет. И быть своей собственной возможностью — значит определяться той частью самого себя, которой нет, то есть определяться как ускользание от себя к чему-то иному. Но парадокс в том, что возможное есть то, чего мне недостает, чтобы быть собой.
Возьмем строчку Пастернака — «у окуня ли ёкнут плавники». Bien e crit et surtout bien pense! Это из стихотворения «Как у них»:
(I, 163)
Так поэт видит рыбу. (Опустим всю христологическую символику этого существа, хоть этот окунь и грандиозней Святого писания.) Плывет зауряднейшая рыба, и легкое движения ее плавников рождает в душе Пастернака (пардон, лирического героя) необычный, невозможный образ. Екает ведь сердце, как может екать плавник? Как исключительно субъективное видение выявляет какую-то сущность? Это и жутко хулиганское видение, потому что «еканье» произведено самим звуком имени (немой!) рыбы — «окуня» (ек/ок). «У окуня ли екнут плавники…» — плавность, плавательность самого движения стиха: широко открытые гласные «у о», мягкая, сонорная «ли» и ласкающая, плавная «лав»… И одновременно трижды взрывающее строку, колющее прямо в сердце, задненебное «к» (ок-ёк-ик). И мы говорим: «Ах, как здорово сказано!» Что ж тут здорового?! Ведь ни один на свете окунь никогда ничем не екал!