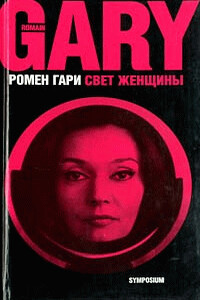Обещание на рассвете | страница 67
Сегодня форма французских носильщиков почти не изменилась, и, всякий раз возвращаясь на Юг, я вновь встречаю друга своего детства.
Мы поручили ему свой кофр, в котором заключалось все наше будущее, то есть небезызвестное старинное русское серебро, чья продажа должна была обеспечить наше благополучие на несколько лет вперед, которые мне потребуются, чтобы осмотреться и встать на ноги. Мы остановились в семейном пансионе на улице Буффа, и мать, едва успев выкурить первую французскую сигарету — «Голуаз блё», — открыла кофр, выбрала из «сокровища» самые лучшие вещи, переложила их в свой чемоданчик и с уверенным видом пустилась в путь по улицам Ниццы в поисках покупателя. Я же, сгорая от нетерпения, помчался возобновлять свою дружбу с морем. Оно сразу же узнало меня и бросилось навстречу, лизнув мне ноги.
Когда я вернулся домой, мама уже ждала меня. Она сидела на кровати и нервно курила. На ее лице была печать полного непонимания, какого-то крайнего изумления. Она вопросительно взглянула на меня, как будто ждала от меня объяснения этой загадки. Во всех магазинах, куда она являлась с образчиками нашего сокровища, ей оказали самый холодный прием. Предлагали смехотворные цены. Само собой разумеется, что она сказала им все, что о них думает. Все эти ювелиры — отпетые мошенники, стремящиеся ограбить ее. Впрочем, ни один из них не был французом. Армяне, русские и, по-видимому, немцы. Завтра же она пойдет во французские магазины, принадлежащие настоящим французам, а не сомнительным беженцам из Восточной Европы, которым, для начала, Франция должна была бы запретить вторгаться на свои территории. Мне не следует беспокоиться, все устроится, серебро царского завода стоит целое состояние; к тому же у нас довольно денег, чтобы продержаться несколько недель, тем временем мы найдем покупателя и обеспечим свое будущее на долгие годы. Я ничего не сказал, но тревога, недоумение, которые я прекрасно уловил в ее остановившихся, расширенных зрачках, тут же передались моему нутру, установив между нами кратчайшую связь. Было ясно, что серебро не найдет покупателя и что через пару недель мы окажемся без гроша в чужой стране. Тогда я впервые подумал о Франции как о чужой стране, что еще раз доказывало, что мы были дома.
В течение этих двух недель моя мать развязала и проиграла героическую битву, отстаивая и рекламируя старинное русское серебро. Она попробовала начать с потомственных ювелиров и золотых и серебряных дел мастеров Ниццы. У меня на глазах она разыграла перед одним честным армянином с улицы Виктуар, ставшим впоследствии нашим другом, сцену подлинно артистического экстаза перед красотой, редкостью и совершенством сахарницы, которую она держала в руке, и прервалась только затем, чтобы пропеть дифирамбы в честь самовара, супницы и горчичницы. Армянин, с высоко поднятыми бровями, с бескрайним лбом, свободным от каких-либо волосяных препятствий и от удивления покрытым тысячью морщин, в оцепенении следил глазами за кривой, которую описывал в воздухе половник или солонка; он поспешил заверить мою мать, как высоко он ценит каждую вещь, проявляя сдержанность только в отношении цены, которая казалась ему завышенной в десять-двенадцать раз по сравнению с реальной стоимостью вещи. Видя такое невежество, мать сложила свое добро в чемодан и ушла из лавки не попрощавшись. Не больший успех ждал ее и в другом магазине, на этот раз принадлежавшем паре добропорядочных французов, где, сунув под нос хозяину небольшой, восхитительных пропорций самовар, она с Вергилиевым красноречием представила ему картину милой французской семьи, собравшейся у фамильного самовара, на что добрейший господин Серюзье, впоследствии часто прибегавший к услугам моей матери, предоставляя ей товары на комиссионных началах, ответил, качая головой и поднеся к глазам висевшее на ленточке пенсне, которое он никогда не надевал на нос: