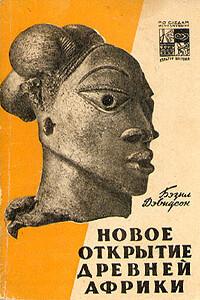Операция «Андраши» | страница 46
— А почему они, собственно, сбежали и перешли к нам? Они что, не хотели там служить?
— Конечно, — с недоумением сказал Митя.
— Но ведь у них не было выбора. Их просто призвали в армию, взяли в плен и, так сказать, снова призвали?
— У каждого человека есть выбор. Обязательно. Он едва удержался, чтобы не спросить Митю: а как же ты? Тут, в этом сарае, в утробе Европы, в могиле Европы, относилась ли и к Мите та правда, которую он знал о себе самом? В этой безмолвной полуночи могла бы Эстер сказать о Мите те же слова, которые сказала о нем? Твоя беда, Том, что в тебе совсем нет мужества, ты способен только тащить свое брюхо туда, где запахло обедом, ты ни на что не годишься. Приговор обжалованию не подлежит. Вот так: осудили, приговорили и прикончили, прежде чем ты успел хоть слово сказать. (Но ведь тебе и нечего было сказать.) Он пробормотал:
— В конце-то концов, они не по доброй воле оказались в немецкой армии. Их ведь морили голодом.
— Так они сказали.
— Но ведь это же правда.
— Они служили в немецкой армии.
Он слышал тяжелое Митино дыхание, почти чувствовал, как поднимается и опускается Митина грудь. Разве можно представить, что ответил бы Эстер этот русский? На него наваливалось безумие отчаяния. Твоя беда, Том, что ты ничто, пустое место, и не успеешь ты опомниться, как станешь добропорядочным членом общества — член общества, миленько, правда? Миленько, миленько, она употребляла такие глупые словечки, но и они не подлежали обжалованию. У тебя будет уютненький домик, уютненькая жена и уютненькая работка. Значит, сейчас ты стоишь не в той очереди, вот в чем твоя беда. Поторопись-ка и встань в свою, если уже не встал. А, как будто это имеет хоть малейшее значение, что бы она там ни говорила. И все-таки выходило, что только это и имеет значение — теперь и всегда. Он хрипло прошептал:
— Все-таки ты судишь их слишком строго, а? Скажи «да». Скажи «да» ради меня, если не ради себя самого.
Но Митя сказал:
— Нет.
Они лежали, раскинувшись под покровом соломы, и их ноздри щекотал пленный запах летнего солнца. Он почувствовал искушение продолжать, непреодолимую потребность:
— Но ты же…
И все-таки он даже не знал, что, собственно, хочет сказать.
Митя сказал за него:
— Да, я понимаю. А как же я сам? Вот что ты думаешь.
— Это же совсем другое, — заспорил он, отрекаясь от собственной мысли. — Два месяца в рабочей команде.
— А какая разница? Я ведь тоже не умер в лагере. Он не мог кончить на этом. Ведь это факт, что на самом деле человек не может выбирать и жизнь делает с ним совсем не то, чего он хотел бы? Ведь это факт, плоский и глухой, как запертая дверь, что каждый человек в ловушке, будь то на горе или на радость?