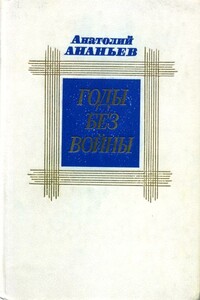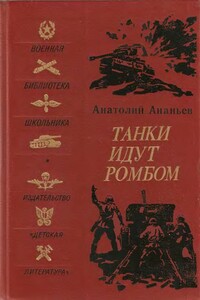Годы без войны (Том 2) | страница 61
Ермаков в очередной раз вместе с Сонею вышел из кабинета, и Афанасий Юрьевич, чувствуя на себе внимание всех и небольшими глотками отпивая красное грузинское вино из фужера (и отвернувшись и забыв уже как будто о Мещерякове), отвечал комуто на один из тех отвлеченных вопросов о возможностях и границах искусства, какие обычно глубокомысленно задаются одними людьми, причисляющими себя к сфере искусства, другим, точно так же причисляющим себя к этой же сфере, и на какие никто и никогда не дал еще вразумительного ответа уже в силу того, что искусство, как и жизнь, бесконечно и всякий раз повторяется в том обновленном и усложненном виде, как обновляется и усложняется жизнь. Афанасий Юрьевич, для которого тема эта была не просто темой для разговора, а пространством, как для Колумба океан, по которому можно плыть и плыть и открывать Индию не там, где она есть, — Афанасий Юрьевич сейчас же отдался этому плаванию, видя перед собой именно это пространство и распуская паруса мыслей. Надежда Аркадьевна, Лия и все, кто был в кабинете, — все со вниманием слушали его. Но Мещеряков, всегда с трудом подпадавший под влияние чужих мыслей и все еще находившийся под впечатлением разговора с Митей и выставленных им мертвецов, могил и оружия со следами человеческой крови, — Мещеряков не мог остановить в себе той умственной работы, которая, соединяясь с жалостью к Мите как к сконцентрированному выражению трудностей народней жизни, оборачивалась в сознании его неожиданными и поражавшими его простотой и ясностью выводами. Он вдруг понял, что и Куркин, и Карнаухов, и сам он, доцент Мещеряков, всегда искавший ответы на жизненные вопросы в изучении истории европейских народов, искали и ищут эти ответы не там, где надо искать их; он (как он никогда позже уже не мог с такой отчетливостью представить себе) понял, что за всей этой интеллектуальной суетою во все времена люди, подобные Куркипу, Карнаухову и ему, Мещерякову, не то чтобы не хотели, но не могли разглядеть и понять всей глубины того, в каких трудных положениях и в разные годы оказывался русский народ; и он выводил это теперь из Митиной биографии, поразившей его тем, что мужское поколение в деревенских семьях выбивалось войнами, и из всех его этих рисунков мертвецов, могил и оружия, — через выразительную силу которых как раз и передавалась эта главная боль народа. «При чем Иисус и при чем христианство? — думал он, удивленно и вместе с тем осудительно вскидывая взгляд на Куркина. — Здесь совсем другое. Здесь боль народа, которую он (Митя) не может сформулировать, но он выражает ее, слепо, бессознательно, в такой именно форме, но выражает ее», — говорил себе Мещеряков.