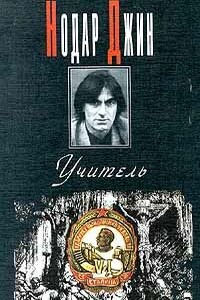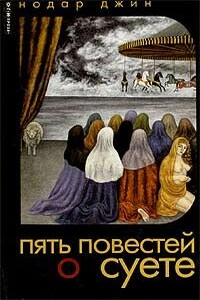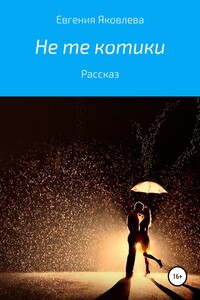Повесть о вере и суете | страница 25
— У любой птицы, — буркнул он, глядя в сторону, на рассматривавших нас голубей за окном, — есть две ноги…
Как всегда, он выдержал паузу и добавил:
— Особенно правая!
Мы захлебнулись смехом. Оба — беззвучным, как если бы заранее об этом договорились. Потом, когда трястись перестали, он полез в задний карман штанов, вытащил плоскую флягу, протянул её мне, произнёс слово «Арманьяк» и удалился.
Корпус фляги оказался нагретым ягодицей брата, которого, как мне подумалось, я видел в последний раз. В горле взбух комок, и я сообщил себе, что близкие мне люди незаменимы точно так же, как незаменим для меня я сам. Даже — больше, потому что условием моей незаменимости является для меня моя постоянная изменяемость, тогда как они навсегда остаются для меня какими были в начале.
Я ощутил в горле удушье и отвинтил на фляге крышку.
Голуби за окном переглянулись, но я не замешкался и опрокинул флягу в рот.
Из горла хмель просочилась в голову ещё до того, пока опустела фляга. Ещё до того же в моей хмелеющей голове — от уха до уха и обратно по всему кругу раскалявшегося мозга — растеклась горделивая мысль, что я кончаю себя зельем с роскошным названием «Арманьяк»! Не надо идти под скальпель и, главное, отказывать в этой просьбе родне!
Вслед за этой мыслью потянется сейчас, закружится-завертится и сама голова, а потом всё остальное вокруг неё. Сдвинется с места весь мир, поплывёт-полетит по спирали куда-то вверх, ускоряясь и растрачивая на витках свою тяжесть, легче и быстрее ввинчиваясь в заоблачную высь, размываясь в привычном значении и обретая иное. Незнакомое и блаженное. И так — до отдалённого короткого витка, который потом свернётся в точку, замерцает и прочертит небесную марь безжизненно ровной линией на голубом осциллографе в моём изголовье.
Никакого страха — только захватывающее дух скольжение в небытие!
14. Сон идёт, но вот его граница
Вышло иначе.
Опорожнив флягу, я швырнул её в окно, вспугнув голубей, которые каркнули, — теперь уже как вороны, — шумно вспорхнули и, напоровшись на железную сетку над собой, заметались в тесном пространстве. Наконец, опустились на ржавый край балки, торчавшей из бетонной стены морга, и уставились на меня ненавидящим взглядом.
Меня, впрочем, смутило не это. В задымленной хмелью голове высунулись ниоткуда зловещие строчки: