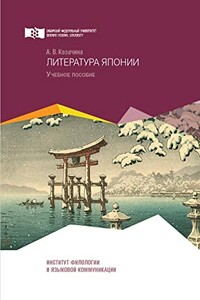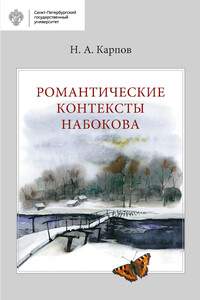Родная Речь. Уроки Изящной Словесности | страница 22
Но в исторической перспективе все сложилось правильно: этих басен никто не знает, и не надо — потому что они скучны, замысловаты, длинны, темны. А лучшие написаны стройно и просто — настолько, что являют собой одну из загадок русской литературы: никто до Пушкина так не писал. Кроме Крылова. Пушкин открыл шлюзы потоку простоты и внятности, но Крылов как-то просочился раньше.
Чеканные нравоучительные концовки крыловских басен легко было заучивать гимназистам. Гимназисты росли, у них появлялись дети и ученики, которых они усаживали за те же басни. Чиновники и государственные деятели были выросшими гимназистами, воспитанными опять-таки на аллегорической крыловской мудрости. Российскую гимназию сменила советская школа, но басни остались, демонстрируя тезис о нетленности искусства.
Когда Белинский писал, что басня «годится разве для детей», он явно недооценивал такое функционирование жанра. Детское сознание охотно усваивало и несло по жизни нравственные нормы, гладко изложенные в рифму при помощи интересных лисичек и петушков.
На это накладывались обстоятельства российской истории.
Страна, не знавшая Реформации — парадоксально лишь контрреформацию (раскол), народ, часто путавший, где Бог, а где царь — ориентировались более на евангельскую букву, чем на евангельскую притчу. Упор на буквальное прочтение текста способствовал развитию в России литературоцентристской культуры, с которой связаны высочайшие взлеты и глубочайшие падения в истории нации.
Главный нравственный источник западного мира — Писание — многосмыслен и альтернативен. Даже самая определенная из речей Иисуса — Нагорная проповедь — допускает множество толкований. Даже когда «ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ:…потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют» (Матф. 13:11–15) — это снова иносказание. И так со всеми евангельскими притчами: истина, скрытая в них, всегда неоднозначна, сложна, диалектична.
Российская мысль подошла было к понятию альтернативной нравственности. Но произошли исторические события — и вновь воцарилась догма, однозначная мораль. Басни Крылова — тоже догма, но куда более удобная, внятная, смешная. А главное — усвоенная в детстве, когда вообще все усваивается надежнее и долговечнее.
Но раз в силу отсутствия демократических институтов и гласности, мораль в России тяготела к одноплановой определенности, то не отразил ли это Крылов, опираясь на народную мудрость? Пишет же Гоголь: «Отсюда-то (из пословиц) ведет свое происхождение Крылов». В любом учебнике русской литературы — общее место, что моралистические концовки басен вытекают непосредственно из народных пословиц. Но так ли это?