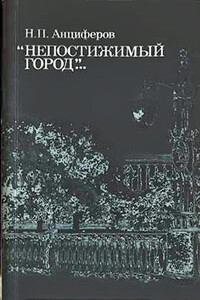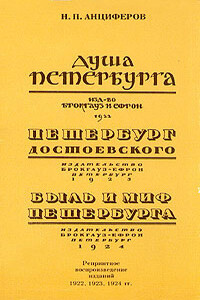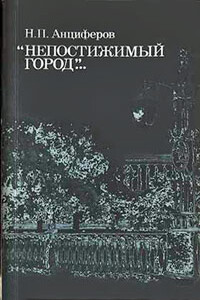Петербург Достоевского | страница 43
Экскурсия распадается на две части.[178] Первая, типологического характера, должна ознакомить с уголками Петербурга середины XIX века в преломлении Достоевского, вторая дает возможность проследить путь Свидригайлова к месту смерти и носить таким образом идиографический характер.
Группа экскурсантов покидает остров и через Старо-Петровский мост,[179] пройдя по набережной, сворачивает в Петровский переулок и, миновав его, останавливается на углу Ждановской улицы перед рядом казенных зданий казарменного типа. Первое из них — манеж дворянского полка,[180] построенный неизвестно кем. Приписывалось раньше его сооружение то Томону, то Стасову, но это утверждение видимо не имеет никаких оснований. За ним 2-й кадетский корпус[181] с домовой церковью Св. Николая Чудотворца. В. Я. Курбатов предполагает,[182] что его строил либо Демирцев, либо Горностаев.[183] Спокойствие пропорций этих зданий, простота убранства, бледно-желтый фон с белыми деталями, классические мотивы портиков, фризов, подоконников — производят довольно приятное впечатление и так к лицу «регулярному городу». Но их достоинства были совершенно чужды пониманию эпохи Достоевского. Вспомним его восприятие петербургского классицизма.
«Жалкая копия римского стиля, псевдовеличественно, скучно до невероятности, натянуто и придумано».[184]
Сочетания подобных домов и создают ту панораму, проникнутую духом немым и глухим, о которой говорится в «Преступлении и наказании». К этим зданиям Достоевский мог бы применить название Мертвого дома. Надо попробовать разобраться, что в этих строениях могло производить такое впечатление. Общая сухость пропорций, окна вытянутые во фронт, лишенные часто всяких украшений, погруженные в толстые стены. Приземистые колонны, грузные фронтоны и аттики, а главное — тягостные ассоциации: аракчеевщины, «присутственных мест», бездушных людей 20-го числа,[185] всего, характеризующего субординацию столицы международного жандарма Николая I, все это вместе взятое породило слепую нелюбовь к так называемому казарменному стилю. В этой части города эти дома попадаются часто. Здесь и поныне можно встретить, словно тень далекого прошлого, старого офицера в николаевской шинели с суровым лицом, обрамленным бакенбардами, идущего вдоль забора из-за которого видны корявые, наполовину высохшие деревья… Проходя мимо отмеченных зданий можно заметить на стенке дома на углу маленькой площадки перед домовой церковью св. Николая отметку о наводнении 1824 года и еще раз фиксировать внимание экскурсии на теме петербургских вод. Если среди экскурсантов имеются лица знакомые с этим местом, то они смогут припомнить вид затопляемой Ждановской.