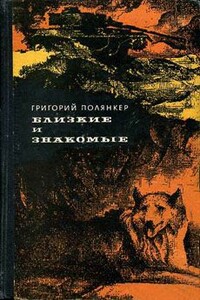За тридевять земель... | страница 30
И еще не зазвучала колядка в полный голос, как вдруг все мы оказываемся на узкой мощеной улице, темной, ночной, заснеженной. Горит один-единственный огонек, где-то далеко-далеко, в топке огромной печи, которой заканчивается улица, а печь изразцовая, на ней нарисованы разные-разные цветы, каких и не встретишь в окрестностях нашего села. Огонь в печи пылает, как пламя заката.
А я уже лежу не на больничной каталке, а на подводе. Двое из тех четырех впряжены в ярмо – они по-прежнему в белых мантиях, – а двое других, в изголовье у меня, подталкивают подводу сзади. Колеса позвякивают, как рождественские колокольчики. Шаги звучат в унисон с уханьем «бугая» в ночь под Новый год.
Я, тот, что на подводе, снова поднимаю голову к тому, что идет поодаль, и снова хочу ему что-то сказать, очень важное, мучительное. Мои глаза наливаются светом, и кажется, вот-вот отыщется и сила и душа, чтобы высказать все, но и на этот раз не удается даже начать. Снова рядом щелкает бич, и снова моя голова зарывается в подушку, и снова утешает меня не то песня, не то, обрывок колядки:
Так, под свист бича, рев «бугая» и звяканье колокольчиков процессия приближается к зеву печи. Сопровождающие, тяжело вздохнув, молча берут меня за руки и за ноги, чтобы бросить в огонь. И тут я, собрав последние силы, то ли пою, то ли выкрикиваю свою колядку:
– Он жив еще, – говорит один из тех, кто был впряжен в ярмо. – Положите его в погреб, пока не превратится в хорошую древесину. Грешно поганить огонь. Вы только поглядите – какое пламя!
Остальные, подумав, соглашаются. И через миг я, идущий сзади, вижу, как эти четверо поднимают меня на плечи и несут к черному жерлу погреба. Входят и постепенно исчезают из виду, спускаясь по ступенькам.
Я подхожу к двери погреба и гляжу им вслед. Они точно в колодец сходят, в колодец, глубокий, как память. А на дне – немножко неба и мерцания.
Я делаю движение, чтобы перешагнуть порог, догнать, схватиться с этими четырьмя в белых мантиях, вырвать из их рук того себя, но тяжелая дверь внезапно захлопывается и преграждает мне путь. Она падает, как театральный занавес, и я уже не снаружи, а внутри, на освещенной сцене. В руках у меня рога плуга, и, налегая на них изо всех сил, я распахиваю землю, и эта земля – лицо моего отца…