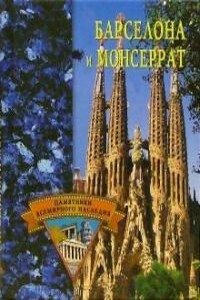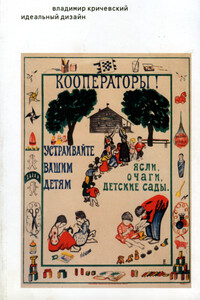Поэтика фотографии. | страница 19
Эстетики, видевшие в искусстве только вымысел, стороной обходили еще одну идею Аристотеля, специально отмечавшего, что "даже если ему (поэту. - В. М. и В. С.) придется изображать действительно случившееся, он тем не менее (остается) поэтом, ибо ничто не мешает тому, чтобы из действительно случившихся событий некоторые были таковы, каковыми они могли бы случиться по вероятности или возможности". В сущности, Аристотель говорит здесь о "возможном мире" современных логиков. Если некоторые из действительно случившихся событий таковы, какими могли быть, то их возможность кто-то должен предположить, кто-то обязан выработать некое множество предвидений, впоследствии подтвердившихся. Реализовавшиеся предвидения и образуют "возможный мир". Человека же, их высказавшего, Аристотель не отлучает от искусства и называет поэтом. Фотограф, творящий совокупность выразительных элементов и надеющийся, что реальность воплотит их, является в полном соответствии с суждением Аристотеля человеком искусства.
"Возможный мир" у Ибсена. Раз внутреннее родство искусства и фотографии базируется на общности метода, то, вероятно, имеются в истории культуры случаи, когда родство осознавалось или становилось явственным. Попробуем их отыскать.
Лингвист и литературовед Ю. С. Степанов отмечает в одной из работ появление в искусстве второй половины прошлого века особого героя, которого ученый называет "человеком без свойств". Герой этот отнюдь не лишен характерологических признаков, однако любое его душевное движение тут же вытесняется другим, зачастую прямо противоположным. В математике умножение величины положительной на отрицательную дает в результате минус. Так же у "человека без свойств" противоречивые действия и мысли, сталкиваясь между собой и как бы уничтожая друг друга, заставляют считать этих персонажей минусовыми величинами; потому и назвал их ученый "людьми без свойств". Появление такого героя Степанов связывает с творчеством Ибсена и Достоевского. Знаменательно, что у обоих писателей в размышления о человеческих характерах и судьбах вплетается тема фотографии. Скажем сначала о первом.
Пер Гюнт Ибсена и впрямь соткан из противоречий. Принявшись за какое-нибудь дело или задумав что-то, он в следующий момент уже разрушает свой замысел. Плывя богачом на родину, собирается - от полноты чувств - наградить каждого матроса и тут же, лишив моряков премии, начинает презирать их. Увидев в бушующем море людей, потерпевших крушение, требует, чтобы их спасли, а через какое-то время, когда затонул его корабль, сталкивает с обломка шлюпки судового повара, обрекая того на гибель. Гюнт жаждет непротиворечивости - в финале он спрашивает Сольвейг: "Где был „самим собою" я - таким, // Каким я создан был. - единым, цельным..." (выделено нами. - В. М. и В. С.) - и слышит ответ: "В надежде, вере и любви моей!" Не мечущимся между противоречиями Гюнт пребывает лишь в мыслях женщины, всю жизнь его любившей. "Возможный мир", который по всему земному шару искал герой и в котором желаемые свойства стали бы действительными, сам оказывается недействительным. Он существует не в каком-то географическом месте, но только лишь в душе Сольвейг.