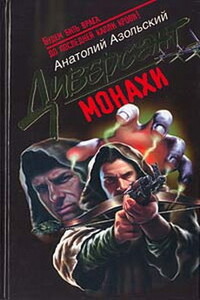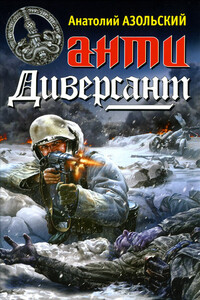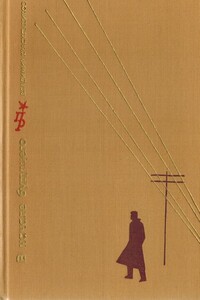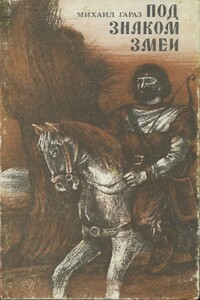Полковник Ростов | страница 85
— Спасибо, дружище, — сказал Ростов и улыбнулся.
Расспросы Штайнера не привязывались к местности, от Брюсселя он уже перебрался в Берлин и прослеживал все знакомства Ростова в столице, миновать Монику Фрост он не мог, да и полной глупостью было бы отрицать связь с нею, Копецки видел ведь ее, по-домашнему одетой, там, в Целлендорфе, расхаживать в легком платьице при одетом мужчине целомудренная немецкая девушка не станет. Ойгену же о ней он, кажется, не говорил, и все же Ойген привез ему письмо от Моники, он же изучил все протоколы ее допросов.
Письмо это читая, Ростов приподнимался, опускался на стул в волнении, ходил по комнате, утыкал лицо в сгиб локтя, скрывая волнение.
Он читал и читал письмо, он стал бесстрашным, он уже ничего и никого не боялся. Все последние годы люди планеты обменивались выстрелами, снарядами, бомбами, ненавистями, а вот, оказывается, он и Моника подарили друг другу неслыханное и невиданное в этот страшный год. Они полюбили друг друга!
Полюбили навечно, до гробовой доски, которой не миновать Ростову, потому что такая любовь должна завершиться смертью!
«Мой дорогой и любимый! Вся моя жизнь от первого крика, услышанного акушеркой, до вечера 14 июля нынешнего года была предвидением, предчувствием, прологом и ожиданием встречи с Тобою, которому я принадлежала еще до того, как Бог предписал моей матери отяготиться мною, той, которая еще в утробе среди сотен звуков распознала Твой хрипловатый голос и незрячими глазами увидела еще не захромавшего юношу, чьи руки могли быть и грубыми, и нежными, и бережными, и каждое прикосновение твоих пальцев к моему безгрешному телу становилось поглаживанием матерью располневшей талии… В тот преобразивший меня вечер 14 июля я дрожала как в ознобе, ибо Ты был моим задолго до моего рождения, и не акушерка услышала мой писк, а Ты вздрогнул, замер на полушаге и растерянно оглянулся, чтобы понять, из-под земли или с небес донесся до Тебя мой призыв… С того последнего дня, когда мы простились, я не нахожу себе места, я потеряла глаза и уши, я ничего не помню, только кожа моя хранит в себе шершавые кончики твоих пальцев, снимавших с меня то, что я восемнадцать лет держала в запасе, холила и нежила, омывала водами Рейна и Шпрее, подставляла ветрам севера и юга, востока и запада…»
Он изумлялся. Неужели это та самая Моника, злючка и недотрога, в холле «Адлона» пылавшая ненавистью к богачкам, в кафе студии так и рвавшаяся к блуду, но вплоть до последней ночи в стыду непорочности красневшая так, что в темноте алели ее щеки?