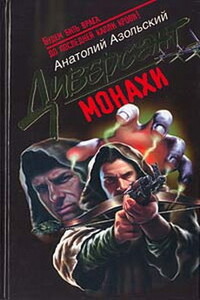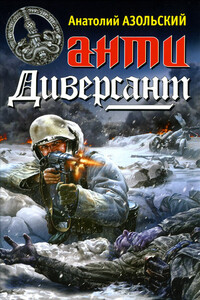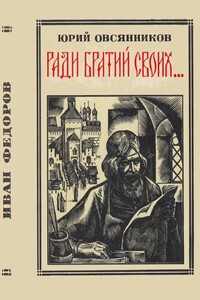Полковник Ростов | страница 61
— Ты меня умиляешь, — сказал Ростов. — Ты меня очень умиляешь. Закрой, пожалуйста, окно: дует.
Уже рассветало, привычно гудели самолеты англичан, по пути к окну Моника уставилась на себя в зеркале, увидела там кого-то из весьма знакомых юношей, показала ему язык, потом еще кое-что, вздернув ногу и пригрозив кулачком: «Да, я такая! Но тебе, слюнявый, ничего не обломится!» — в доказательство чего сделала хулиганский жест, от которого враз бы загоготала казарма. Что ж, сбылась мечта мужчины, 38-летнего Ростова, последней женщиной в его жизни, как и первой, стала девчонка с повадками малолетнего преступника. Круг замкнулся, цикл завершился, мосты сожжены, смерть не за горами, и уже не помчишься в Бамберг, не упадешь Нине в ноги, моля о прощении; 20 июля может сказаться на судьбе Германии, страны, которую они оба любят; в стране этой люди, с которыми хочется брататься, в ней все лучше того, что есть и лежит за границами, над Германией даже воздух какой-то другой, с иным азотом и кислородом; Аннелора в бешенстве отшвыривала кисть и визжала: «Я не могу никакими красками передать немецкий воздух! Он не кладется на полотно!» Да, и воздух особый, и воды особые, и люди особые — и все вместе летит в пропасть, Германия накануне гибели.
И вестником этого полета в пропасть явился оберштурмбаннфюрер Копецки, поутру завалившийся в особняк. В полной эсэсовской форме, но серого цвета, улыбающийся, виду не показавший, что увидел мелькнувшую Монику. Принюхался — и разведенные руки его намекнули Ростову: женщиной пахнет, что достойно только одобрения и подражания. Зачем в Берлине он — не сказал; он даже расспросов опасался, три минуты пустяшного разговора — и откланялся. Проявляя сверхосторожность, Крюгель заблаговременно спрятался в котельной.
19 июля 1944 года, сутки до гибели или счастливого спасения Адольфа Гитлера. Обер нашел Ростову свободный столик наверху, «крепости» уже улетели, а до «ланкастеров» еще далеко, хотя какая разница, «Адлон» кому-то нужен невредимым; публика прежняя, та, что переживет любые кризисы и катастрофы, внакладе не оставшись. Беззаботный смех, выстрел раздался: пробка из бутылки шампанского приятно оживила дискуссию за столиками. Обер постарался, Ростову подали стародавнее мозельское особой выдержки; обер улыбался, глаза поднялись кверху и опустились, выражая презрение к небу, которое вскоре зажужжит моторами и обрушит на землю взрывающиеся камешки. Налеты англосаксов, бомбежки эти только укрепляли веру людей в Гитлера, на Геринга сваливали они все беды свои, на Толстого Германа, когда-то поклявшегося, что ни один вражеский самолет не вторгнется в воздушные пределы Германии, на рейхсмаршала авиации, о котором Ростову приходилось думать с некоторым почтением: отец Толстого Германа причастен к усыновлению Гёца. Народ осыпал рейхсмаршала насмешками и проклятиями, сочувствуя Адольфу, избравшему в свои друзья и помощники столь негодного, лживого, попугайского вида мужика. И в это-то время убивать фюрера?! Да все же сочтут убийц врагами Германии, чего не понимают генералы, только количество дивизий в расчет принимающие, тех дивизий, которых нет, которые уменьшены, урезаны, о которых молва уже сочинила: «Да теперь нашу дивизию можно накормить из одной полевой кухни!» Убьют или не убьют — все кончится провалом, и обер знает финал этого спектакля, более того — он и о судьбе Ростова осведомлен. Спросил участливо, как дама его — с работы ее отпускают? Ростов рассказал, еле шевеля губами, о происшествии на студии; когда кельнер в тамошнем ресторане подошел, угодливо изгибаясь, к столику, то услышал от Моники заказ: «Брюквенный суп!» Обер пожевал бескровными губами, предостерегающе («Это серьезно! Это очень серьезно!») поднял палец, отошел, минут через десять приблизился и выразил пожелание: ему, Ростову, надо быть чрезвычайно осторожным! Подтверждающий кивок дополнился разведением рук — в знак того, что изреченная истина, как ни горька она, есть указание свыше, а не домысел…