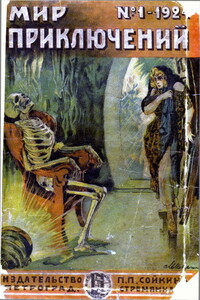История русской словесности. Часть 3. Выпуск 1 | страница 56
Развитіе націонализма — законное явленіе. Смѣшеніе націонализма съ консерватизмомъ. Особенности этого націонализма николаевской эпохи.
Съ исторической точки зрѣнія, это возрожденіе націонализма было явленіемъ вполнѣ закономѣрнымъ: выше, пересказывая судьбы русской литературы въ ХѴIII-омъ и въ началѣ XIX-го вѣка, я отмѣтилъ постепенное проясненіе націонализма въ русскомъ самосознаніи. Но уже въ эпоху Александра I этотъ націонализмъ изъ сферы чисто-литературной перешелъ въ сферу политическую, выставивъ противъ либеральныхъ начинаній императора такую консервативную общественную массу, которая вступила въ борьбу во имя ясно-сознанныхъ историческихъ идеаловъ. Такъ произошло скрещеніе и соединеніе "націонализма" съ «консерватизмомъ». Теперь, въ эпоху Николая I, эти консервативно-націоналистическіе идеалы восторжествовали въ силу историческаго закона, по которому всякій моментъ интенсивнаго движенія впередъ всегда сопровождается моментомъ такого-же интенсивнаго стремленія назадъ. Такимъ образомъ, націонализмъ этихъ идеаловъ и въ царствованіе Алексавдра, и въ царствованіе Николая I не созрѣлъ спокойно, какъ слѣдствіе мирной эволюціи общественнаго самосознанія, — онъ опредѣлился, какъ результатъ политической борьбы. Такой боевой, полемическій характеръ русскаго оффиціальнаго націонализма придалъ его идеаламъ и односторонность и излишнюю страстность. Увлеченные борьбой съ «западниками», наши "націоналисты" готовы были — 1) отвергать всякій прогрессъ, 2) считать ненароднымъ все, что видѣли въ западной жизни. Между тѣмъ, въ понятіе истиннаго «народничества» отнюдь не входилъ такой крайній консерватизмъ, какъ доказали это своими взглядами «славянофилы» этой же эпохи.
Кромѣ этого воинствующаго характера, "оффиціальность народность" грѣшила еще тѣмъ, что, опираясь на историческія основанія русскаго прошлаго (односторонне-освѣщенныя Карамзинымъ), она, въ то же время, не понимала, что въ исторіи неподвижнаго нѣтъ, — все движется, все развивается, и потому историческія основы, на которыхъ, быть можетъ, дѣйствительно, строилось міросозерцаніе нѣкоторыхъ общественныхъ группъ старой Москвы, — не могутъ оставаться основами общественнаго самосознанія Россіи ХІХ-го вѣка.
Оппозиція этому націонализму.
Вотъ почему уже многіе современники этой эпохи начали сомнѣваться въ благотворности такого «народнаи» характера новой политической системы. "Они соглашались, что она удовлетворяла преданіямъ массы, но утверждали, что, въ болѣе широкомъ смыслѣ, она вовсе не была народна, такъ какъ, по своей крайней исключительности, не давала никакого исхода для развитія умственныхъ и матеріальныхъ силъ народа, оставляя огромную долю самого народа въ рабствѣ, и, наконецъ, что даже въ способѣ ея дѣйствій господствовали взгляды, внушенные чужой, западной реакціей" (Пыпинъ). Изъ такихъ мыслей стало складываться оппозиціонное настроеніе въ русскомъ обществѣ николаевской эпохи.