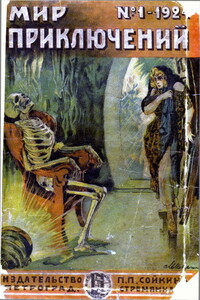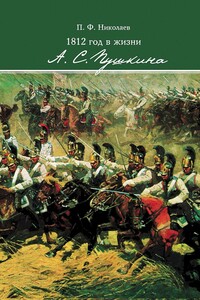История русской словесности. Часть 3. Выпуск 1 | страница 12
Содержаніе его поэзіи.
Цѣлый рядъ произведеній Пушкина, въ которыхъ дѣйствующими лицами являлись пастухи и пастушки, нимфы и сатиры, былъ результатомъ этого преклоненія передъ Парни и КR..[9] Даже мрачной, холодной поэзіей Оссіана увлекся онъ въ передѣлкахъ Парни.[10] Произведенія автобіографическаго содержанія проникнуты такимъ же безоблачнымъ настроеніемъ: вино, любовь и дружба, — вотъ, единственные мотивы этихъ произведеній; къ нимъ относятся всѣ многочисленныя посланія его къ друзьямъ и красавицамъ, мимоходомъ плѣнявшимъ его легко-воспламеняющееся сердце.
Фантазія поэта.
Надо, впрочемъ, добавить, что многія изъ тѣхъ шумныхъ и широкихъ развлеченій, которыя воспѣвалъ Пушкинъ во время пребыванія своего въ лицеѣ, относились къ области "фантазіи". Онъ самъ не разъ признается, что въ ранней юности былъ большимъ "фантазеромъ-мечтателемъ"
— восклицаетъ онъ въ одномъ произведеніи; себя онъ называетъ "невольникомъ мечты младой", говоритъ, что "мечта — младыхъ пѣвцовъ удѣлъ". Въ мечтахъ онъ обладалъ тогда "всѣми радостями земными". Юношу тянуло въ очарованный міръ фантазіи, туда, "гдѣ міръ одной мечтѣ послушный". Что это былъ за міръ, — мы видѣли: дѣйствительная жизнь была куда скучнѣе и скромнѣе, — тѣмъ "прекраснѣе" былъ "міръ мечты": онъ казался ему роскошнымъ садомъ, гдѣ не переводятся цвѣты — увядаетъ одинъ, расцвѣтаетъ другой… Хлои смѣняются Доридой, любовь — виномъ. Юноша-поэтъ, окрыляемый фантазіей, видѣлъ себя въ роскошномъ хороводѣ красавицъ, въ кругу друзей, гдѣ царятъ тонкія анакреонтическія настроенія. Отуманенный этой оранжерейной атмосферой, не имѣвшей ничего общаго съ дѣйствительностью, онъ пѣлъ восторженную пѣснь безмятежному эпикуреизму…
Эпикуреизмъ Пушкина послѣ лицея.
Позднѣе, когда онъ кончилъ лицей и вступилъ въ жизнь, этотъ «эпикуреизмъ» выразился въ самомъ безшабашномъ прожиганіи жизни, — тогда поэтъ пересталъ воспѣвать безтѣлесныхъ Хлой и Доридъ, сталъ воспѣвать живыхъ женщинъ и живую любовь, мало общаго имѣющую съ тѣмъ отвлеченнымъ, фантастическимъ чувствомъ, съ которымъ онъ носился въ лицеѣ.
Но, повторяю, никогда Пушкинъ не былъ въ исключительномъ подчиненіи y однихъ настроеній, — если "эпикурейскіе" мотивы были типичными для этой эпохи, то нельзя умолчать и о другихъ, замѣтно опредѣлившихся въ этотъ періодъ въ его творчествѣ.