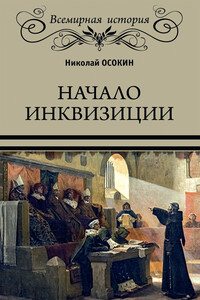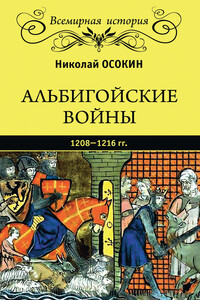История альбигойцев и их времени (Книга первая) | страница 66
«Монахи, — говорит по этому поводу настоятель везонской обители, — покидают свое прежнее платье и ходят по улицам одетыми по новой моде; мясо они едят, когда хотят. Самые неприличные раздоры совершаются в монастырях при избраниях. Так, я знаю монастырь, в котором правят четыре аббата. Цистерцианцы еще чем-нибудь заслуживают похвалу[A_68], они расточают большие милостыни, изучают церковное песнопение, творят много добрых дел. Но и они искусны силой или хитростью присваивать себе имущества и доходы других орденов. Епископы же требуют от приходов большие взятки, а места продают за деньги. Они не дают даром церквей священнослужителям, а прежде требуют подарков, потому те и стригут своих прихожан, как торговцы овец. Последствия бывают еще ужаснее, когда священники подают пастве пример безнравственной жизни. Все преисполнилось пороков, и, как видно из слов приора, побудительная причина заключается в безнравственной жизни духовенства» [1_51].
Еще большим аскетизмом характеризуется взгляд другого высокопоставленного духовного лица, свидетеля самого разгара альбигойских войн и проповедника крестового похода. Надо, впрочем, заметить, что личности вроде Якова Витрийского, епископа города Акконы, появляются благодаря исключительным обстоятельствам. Полуаскет в жизни, носитель идеалов духовного и телесного подвижничества, суровый епископ не хочет ничего видеть в современной ему эпохе, кроме зла. Он был из тех служителей Церкви, которые оказались закалены борьбой Иннокентия III со старыми порядками, борьбой за идеалы нравственной чистоты, борьбой, породившей много неукротимых ригористов, которые, с вечными текстами на устах, в пылу ломки, думая вернуть неуместную патриархальность нравов, впали в противоположную крайность.
Тем не менее уже одно качество обличений автора «Иерусалимской истории» дает право вполне поверить ироническим и озлобленным трубадурам. Заметив, что весь мир потерял понятие о добродетели, что все гибнет среди «пьянства, обжорства, пороков нравственных и утех чувства, которое не кладет даже границ различием полов», что религия падает от нечестивого кощунства, суровый епископ, переходя специально к духовным лицам, так отзывается про монахов:
«Отказавшись от света и от самого века, связанные одним долгом молитвы и веры, они тем более пали нравственно после своих обетов. Вечно беспокойные, никого не признающие над собой, терзая друг друга, они носят крест Христов будто налог и, нечестивые, невоздержные, живут по плоти, а не по духу».