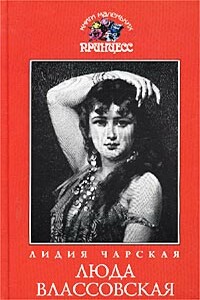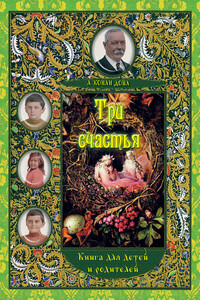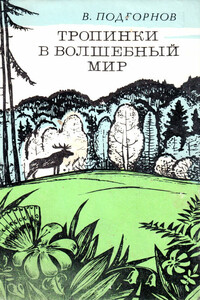Записки институтки | страница 90
Чье-то рыдание, надрывающее душу, сухое и короткое, огласило комнату.
Это плакала Ирочка Трахтенберг, не успевшая проститься с княжной. Maman, с добрыми, покрасневшими глазами, в черном платье и траурной наколке, поднялась на ступени катафалка и, склонившись над своей мертвой любимицей, разгладила ее волосы по обе стороны белого и ровного, как тесемочка, пробора. Крупные, горячие слезы закапали на руки Нины, а губы Maman судорожно искривились, силясь удержать рыдания.
— Да, дети, это была золотая, благородная, честная душа! На редкость хорошая! — обратилась она к нам тихим, но внятным голосом.
«Чистая! Честная! Святая! И лежит здесь без дыхания и мыслей, а мы, ничем не отличающиеся, шаловливые и капризные, будем жить, дышать, радоваться!..» — сверлило мой мозг, и каким-то озлоблением охватило мою детскую душу.
Четыре дня стояла покойница в ожидании приезда отца, которого уже известили по телеграфу о смерти Нины.
На пятый день он приехал во время панихиды, когда мы меньше всего ожидали его появления.
Он вошел быстро, внезапно, еще молодой и чрезвычайно красивый высокий брюнет, в генеральской форме. Он вошел мертвенно-бледный, с судорожно подергивающимися губами под черной полоской тонких, длинных усов и прямо направился к гробу.
Не решаюсь описать того страшного, мрачного отчаяния, которое я увидела на этом мужественном лице. Я помню только не то крик, не то стон, вырвавшийся из груди отца при виде мертвой дочери… Но это было до того потрясающе-мучительно, что мои нервы не выдержали, и я зарыдала в ответ на этот крик, зарыдала теми благотворными, отчаянными рыданиями, которые смягчают несколько тяжесть горя. А он все стоял, схватившись обеими руками за край гроба и впиваясь мрачно горевшими глазами в лицо своего единственного, навеки потерянного ребенка…
На другой день ее хоронили.
Отпевание было в нашей церкви, где столько раз так горячо молилась религиозная девочка.
Весна, так страстно любимая Ниной, хотела, казалось, приласкать в последний день пребывания на земле маленькую покойницу. Луч солнца скользнул по восковому личику и, ударясь о золотой венчик на лбу умершей, разбился на сотню ярких искр…
Она еще глубже опустилась за два дня на своем последнем ложе и еще мертвеннее было заостренное личико; темные пятна, проступившие на нем, легли зловещими тенями.
«Боже мой, — думала я, мучительно вглядываясь в любимый образ, весь окутанный тонкой и прозрачной дымкой фимиама, — неужели я уже никогда не услышу ее милого голоса? Неужели все-все кончено?..»