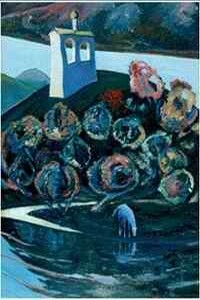Борьба с формализмом | страница 6
Козел был заклан Панькой посередине широкого колхозного поля. Козлиной пахучей кровью Панька окропил распахнутую для семени землю. Тут же, посередине поля, он закопал плодовитые козлиные органы. Тушу козла закопал на восточной меже.
Такого в деревнях ближних и деревнях дальних никогда не видывали — бывало, водили соломенную кобылку, но чтобы козла забивать и закапывать его органы — царица небесная! — такого даже не слыхивали. Церковь объявила колхоз бесовским учреждением. Колхозники обозлились и, пооравши насчет мировой революции, вытолкали Паньку из деревни прочь.
Ржи уродилось невпроворот — серпами жали. Конная жатка закусила и поломалась. Кони вскинулись на дыбы. Хвосты свечой. Гривы ходуном ходят от электричества. Никогда более, даже с применением химизации, интенсификации и пестицида, такая рожь тут не удавалась. Даже на Кубани ничего подобного не выходило.
Панька был странником — бродягой от рождения. Так и остался им. И может, отходил бы свой срок до конца и умер бы смирно на последнем шаге своем, не привяжись к нему молодой оперуполномоченный: мол, бродягам в советской республике не положено быть, так как они содержат в себе нездоровую тягу к воле, неверие в силу мирового пролетариата и антинаучные мечтания. Народ прятал Паньку от этого молодого сыщика, и Панька служил деревенскому люду с привычной честностью: ребеночка-крикуна уймет, у коровы сглаз снимет. Пьяниц Панька хорошо заговаривал и надолго — на год. На два года, объяснял, — нельзя. Если на два года заговорить, то превратится мужик к концу срока в тигра Евфратия — лицом человек, душой — тигр Евфратий, и убежит к молодой бабе. А вот на всю жизнь можно. Но тогда уже ни на свадебку, ни на поминки, ни на Рождество Христово. Ни под килечку, ни под лучок…
Панька песни пел, и частушки пел, и сказки рассказывал.
Был любезен всем жителям, особенно девкам и молодым вдовицам: если присуха, любовная печаль, не утоление или, бывает, бесы. Иные краснощекие девки клялись благородным словом, что сами видели, как печаль с них слезла и тащилась за Панькой зеленой мреющей тенью. Другие видели бесов — те корчились, но за Панькой бежали, поскуливая.
А тот молодой опер стал Паньку теснить. Вместе с милиционером, таким же гололобым, обложил он Паньку в густом лесу. Там Панька ночевал в занесенной снегом копешке. У него по всему лесу такие копешки были накошены.
Разговор между ними произошел:
— Панька, сдавайся. Ты бродяга.