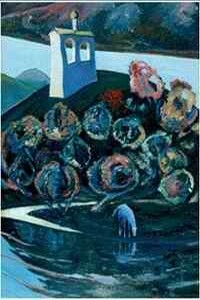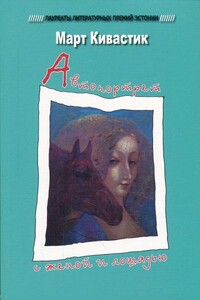Борьба с формализмом | страница 17
Старик сидел, как солдат перед ампутацией гангренозной ноги.
Васька еще из кухни не ушел, как раздался звонок в дверь. Длинный, нервно-прерывистый. За дверью нетерпеливо топтался кто-то и придрыгивал ногами. Васька дверь распахнул. И не то чтобы ахнул и не то чтобы заорал «Физкульт привет!», но расплылся в улыбке.
— Маня, — сказал он. — Ну ты даешь.
— Не даю, — ответила Маня и впихнула в коридор коляску с дочкой.
Васька попятился. Пятясь, вошел в свою комнату.
— Как зовут? — спросил.
— Софья Петровна. Отчество в честь императора. Он разрешил.
— Закуривай, — Васька протянул Мане «Беломор».
Она закурила.
— Выпьешь?
Она кивнула.
Они выпили по стакану портвейна. Маня легонько толкнула коляску к Ваське. Васька вынул девочку. Руки его не сгибались.
— Урод, — сказала Маня, — ребенка держать не умеешь.
— Тепленькая… — Васька светился.
— Я и говорю — урод. Она могла бы быть твоей дочкой.
— Не могла бы. Когда мы с тобой познакомились, ты была уже беременная.
Маня долила себе портвейну в стакан.
— Все же какой урод, — прошептала она и потащила коляску к двери. Коляска была складная, дубовая, немецкой работы. Васька шел следом с девочкой на руках. Пустая коляска прыгала по ступенькам.
Вернувшись, Васька открыл еще бутылку.
На следующий день Васька снова пошел к старику. Толкало его туда что-то, связанное с Маниной дочкой. Он улыбался, когда шел. Улыбался, когда вошел. Но улыбка его стала кривой.
Мягко натертый паркет, запах кофе, золото рам, кафель, тонкий фарфор, бело-синий фаянс, тяжелая шпалера, отделяющая кухню от мастерской.
Но был запах водки, не тот кисло-горький запах попоек с чесночной отрыжкой, с квашениной сквозь табачную вонь, но отчетливый и трагичный, как крик в пустом храме.
Ренуаровской «Шляпки» на стене не было. Из стены торчал гвоздь. Под гвоздем — светлое, почти белое пятно, не похожее ни на что — только на преступление.
— Выпейте, — сказал старик. На столе среди фаянса, фарфора и хрусталя стояла бутылка «Московской». Раньше старик всегда выставлял водку в графинчике. — Не огорчайтесь, друг. Все просто, как блин. Если благополучие семьи держится на труде лишь одного из ее членов, то и вина за такую структуру и за возможное нищенство лежит на нем. — Старик пожевал розовыми от водки губами. — Я знал, что у меня не хватит сил и таланта. — Он наклонился через стол к Ваське. — У меня нет коллекции в общепринятом смысле, у меня лишь добро, которое можно продать. Мне хочется, чтобы оно сгорело. И я бы сгорел пламенем.