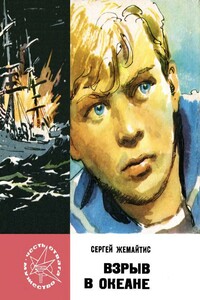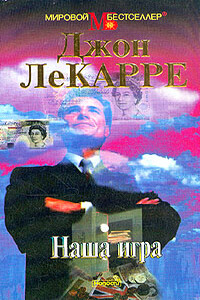Совершенно секретно | страница 34
— Один… два… три… четыре… пять…
В динамике раздалось:
— Благодарю вас, сэр. Всё о’кэй.
Хорошо… С этим покончено… Он готов. Хансен бросил взгляд на часы — время его не интересовало, он даже не запомнил, который был час, — и вышел в соседнюю комнату, где военный техник возился с магнитофоном.
На стене комнаты, где должен был происходить допрос, было укреплено огромное квадратное зеркало. Отсюда это зеркало выглядело как чистое и прозрачное окно. И тот, кто подвергался допросу, и тот, кто вёл допрос, будут отсюда видны как на ладони. У этого окна остановился Хансен. Техник повернулся к нему.
— Как, сэр, приказать, чтобы ввели его?
Хансен кивнул. Солдат нажал на клавишу. Через минуту в дверях показался военный полицейский в каске и рядом с ним Гартман. Полицейский указал на стул перед письменным столом, а сам застыл у двери.
Гартман огляделся и сел на стул. Он выглядел очень усталым и постаревшим. Много старше, чем Хансен его помнил. Он почувствовал, как забилось у него сердце. Впервые в жизни… Прислонил лоб к окну и так стоял, ощущая холод зеркального стекла.
Техник поднял голову.
— Готово, сэр?
Хансен, не оборачиваясь, ответил:
— Дайте ему ещё пару минут.
Техник откинулся в кресле, достал сигарету. Хансен всё смотрел и смотрел через окно.
«…Гартман… Вильгельм Гартман… Помнишь ли ты, как мы вдвоём погибали там, в Сталинградском котле. Два несчастных пехотинца «преславной шестой армии». Помнишь, нас назначили в дозор, и ты протянул мне листок бумаги. Пропуск в жизнь… Ты только посмотрел на меня. Твои глаза горели на исхудавшем лице. А когда я тебе вернул пропуск и кивнул, тогда наша дружба победила многое, очень многое… Победила навсегда.
В сожжённом цеху мы в кровь обдирали руки о ржавое листовое железо, ты помнишь те дни, Гартман, старый дружище? А то серое ноябрьское утро, когда я «дошёл»: обессиленный голодом, в озлоблении швырнул в угол молоток, ещё минута, и я ушёл бы из цеха навсегда. Разве не мало людей поглотил тогда чёрный рынок, спекуляция, уголовщина? Тогда ты достал свою сумку. Две морковки были в сумке — твой «рацион» на весь день. Ты положил их на лист железа и подтолкнул ко мне. Я руку твою помню, Гартман!.. А помнишь ли маленькую комнатку на Меллендорфштрассе в районе Лихтенберга. Электрический свет исчезал тогда часто и надолго. Печь беспрестанно гасла, иногда её нечем было разжечь… Мы зажигали старую керосиновую лампу, и в её свете твоё дыхание клубилось в холодном воздухе комнаты. В то время мы ещё копались на пустовавших полях. Лопатами, что постоянно гнулись. Чёрные тени легли под твоими глазами. Но глаза твои горели прежним огнём. Глаза твои были самой живой, самой убеждающей демонстрацией, наглядным пособием, что ли, к твоим лекциям, трезвым, но устремлённым к звёздам лекциям. Всегда на твоём столе лежали брошюры, карандаши и блокноты, а стол был стар и хром, и крышка его была когда-то кем-то до нас изрублена.