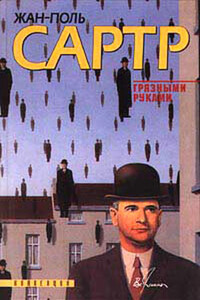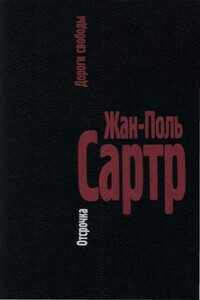Слова | страница 20
Я обрел свою религию: книга стала мне казаться важнее всего на свете. В книжных полках я отныне видел храм. Внук служителя культа, я жил на крыше мира, на шестом этаже, на самой верхней ветви священного древа: ею стволом была шахта лифта. Я бродил по комнатам, выходил на балкон, глядел сверху вниз на прохожих, кивал через решетку балкона Люсетте Моро, моей ровеснице и соседке — золотыми локонами и юной женственностью она походила на меня самого, — потом возвращался в келью или предхрамие, да, собственно говоря, мое «я» вообще его не покидало. Когда мать водила меня в Люксембургский сад — а это случалось ежедневно, — эти низменные края лицезрели лишь пустую оболочку: мое победоносное «я» не оставляло своего насеста. Полагаю, что оно там и поныне. У каждого человека свои природные координаты: уровень высоты не определяется ни притязаниями, ни достоинствами — все решает детство. Моя высота — шестой этаж парижского дома с видом на крыши. В долинах я задыхался, низины меня угнетали: казалось, я на планете Марс и еле волочу ноги, меня расплющивала сила тяготения. Стоило мне взобраться на бугорок, я блаженствовал; я возвращался на свой символический шестой этаж, вдыхал разреженный воздух изящной словесности, вселенная уступами располагалась у моих ног, и каждый предмет униженно молил об имени дать ему имя значило одновременно и создать его, и овладеть им. Не впади я в это капитальное заблуждение, я бы в жизни не стал писателем.
Сегодня, 22 апреля 1963 года, я правлю эту рукопись на десятом этаже нового дома; в открытое окно мне видно кладбище, Париж, голубые холмы Сен-Клу. Казалось бы, я неисправим. И, однако, все изменилось. Если бы в детстве я домогался этого высокого положения, в моем пристрастии к голубятням можно было бы усмотреть плод честолюбия, тщеславия, желания отыграться за маленький рост. Но все обстояло иначе: мне не к чему было карабкаться на свое священное древо — я уже сидел на нем и просто не хотел слезать. Я и не помышлял о том, чтобы возвыситься над людьми; я хотел парить в воздушном пространстве среди эфемерных подобий мира вещей. В последующие годы я не только не стремился к воздухоплаванию, но всячески пытался опуститься на дно — понадобились свинцовые подошвы. Иногда мне удавалось на песчаном грунте коснуться обитателей морских глубин, которым я был призван дать имя. Но чаще я усердствовал зря: неодолимая легковесность держала меня на поверхности. В конце концов мой высотомер испортился, и теперь я иногда аэростат, иногда батисфера, иногда и то и другое вместе, как и положено нашему брату; по привычке я проживаю в воздухе и без особой надежды па успех встреваю во все, что творится внизу.