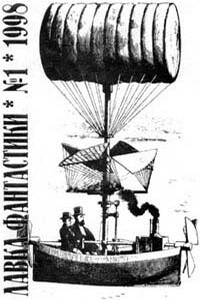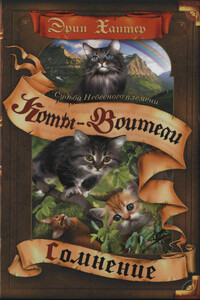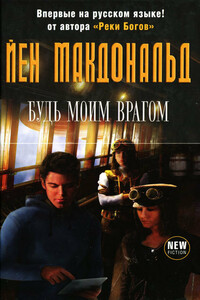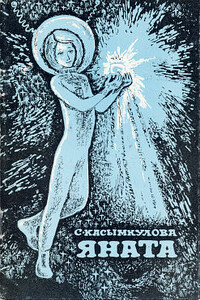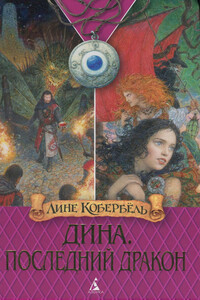Как поймать длиннозавра | страница 22
Если б на экранчик видеофона взглянули Женька Маковкин или Тася Новгородцева, то они сразу признали б в необыкновенном роботе свою старую знакомую Капитолину. Роботу-вахтеру летом в школе делать нечего, поэтому Капитолина в каникулярное время подрабатывала в консерватории: принимала заявки абитуриентов, составляла гастрольные графики и на досуге писала монографию «Влияние вибрации колец Сатурна на развитие сонатной формы».
Энергичному Федору Шереметеву, впрочем, не составило большого труда выудить у словоохотливой Капитолины необходимую информацию. Ближайшим к Институту Времени музыковедом в данный момент можно было считать Екатерину Баталину, она читала лекции о разнице между какофонией и додекафонией для младшей группы марсианского детсада имени Эдгара Райса Берроуза. Причем улетела она туда не ранее, как вчера. Во вчерашний день немедленно была отправлена хронокапсула, Екатерину перехватили на космодроме, на трапе каботажного космопарусника и доставили на одиннадцатый институтский этаж.
Баталина мельком взглянула на партитуру, слегка засоренную математикой, и вынесла вердикт: со времен палеолита и до периода постминимализма музыки подобного характера никто не сочинял.
— Я бы даже не рискнула назвать это музыкой в привычном смысле слова, — объяснила Баталина. — И странность ее заключается не в гармониях или размерах, а именно в темпах. Не советую исполнять это произведение перед неподготовленной аудиторией. Дело в том, что симфония меняет субъективное восприятие времени. Слушателю покажется, что он находится одновременно в разных кульминационных пунктах. Вот здесь, в анданте, время несется скачками, а скерцо будто накрепко замораживает каждое мгновение, и оно длится вечность… Пока не утыкается в реакцию замещения атомарной ртути на фтористый нейтрид в трициклогидровелофотогеназе. Но тут вам потребуется специалист другой квалификации… Кстати, а кто автор? Мне бы хотелось взглянуть ему в глаза.
— Если не передумаете, — снова пришлось повторить усатому лингвисту.
Химик в институте нашелся (минус третий этаж, подземный). Он возжелал похлопать по плечу тот талантище, который разработал сложномолекулярные соединения, превращающие селезенку в аналог хроноэмиттера и заставляющие поджелудочную железу работать в режиме темпоральной локации.
— Я всегда говорил, что будущее за биотехнологиями, — провозгласил химик. — Зачем громоздить конструкции из плазмокристаллов, оптоволокна и ядерных нанореакторов, если наш собственный организм можно научить играть роль машины времени или антигравитатора. Да хоть карманного фонарика, если понадобится.