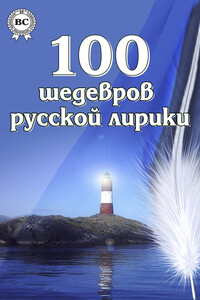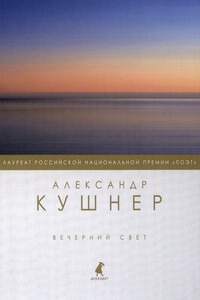Открыто | страница 22
Богу-то я все время печаль и жалобы, звуком слегка похожие на пилу, знаешь, при нем я так легко не лежала бы, скорчилась бы, наверное, на полу. И вспоминала б горе свое по мелочи, с траурными подробностями причем, он ведь готов услышать о каждой немочи, тоже, делов-то, плакать ему в плечо. И разливаться речкою по раздольному, а под конец с гнусавеньким «ах, прости» вытереть слезы. Высморкаться в подол ему. Выйти, пообещав над собой расти.
Ох, мы с тобой смеемся - ему икается, а ведь недавно липла с раскрытым ртом. К этому так безропотно привы-кается, что отвыкать намучаешься потом. То есть вот так идешь, возвращаясь с рыночка, глазки закроешь и говори, стенай. Ну вот зачем, скажи мне, кому Мариночка, пусть она и надежная, как стена. Ну и давайте, так себе и живите, в черной тоске грызите родной матрас. Мы тут с Маринкой пьем за здоровье Витино, чтоб ему было счастье двенадцать раз.
Мы это все забудем, но вы запомните? Ткните в ладонь, когда я опять сорвусь. Женька сопит тихонько в соседней комнате и обнимает плюшевую сову. Мир заключен в ее непокорном локоне, дремлет в ее запутавшейся косе… Слушай, Маринка, Бога просить неловко, но - пусть у нее все сбудется лучше всех?
Слушай, ты понимаешь, дорога трудная, а для судьбы мы все на одно лицо. Пусть у нее, у Мишки из Долгопрудного, Натки со Стасом, Кости из Люберцов, всех и не перечислишь, а время дорого, капает, ночь заходит; зима поет, пусть у них, понимаешь, все будет здорово, как вот у нас, когда мы сидим вдвоем.
Солнце вспороло снег золотыми венами, выйти на улицу, выключить дома свет. Слушай, не трогай Бога, ему наверное, тоже хотелось - ночером по Москве.
А это даже почти банально, ну то есть каждому по плечу, луна на небе висит бананом и смотрит, как я внизу лечу. Как я придумываю кульбиты, и заворачиваюсь в дугу, и промокаю башкой разбитой босые искорки на снегу. Ну то есть чем я там начиняю все то, что вертится надо мной. Ну то есть как я там сочиняю полет, которого не дано.
Сидеть, чужие желанья нянчить - свои слова в монитор цедить. Сереже двадцать один, а значит, Марине тоже двадцать один. Мороз и солнце - простой рисунок, такой вот крепкий густой раствор, они знакомы пятнадцать суток - как срок за мелкое воровство. А я рассаживаю, кручу, да, и расставляю по падежам. Они знакомы - такое чудо - кружиться, за руки не держась.
Им можно мучиться, петь закаты, ходить по кромке, глотать лучи. А мне по блату раскрыты карты, что хочешь - то и заполучи. Ходите мимо, дождем поите, сорите грезами наяву. Я здесь могу срифмовать «Таити» и сделать вид, что я там живу. У них ладошки замерзли, сжались, зима рассыпалась над Москвой. Я даже, в общем, не отражаюсь, я пропечатываюсь насквозь.