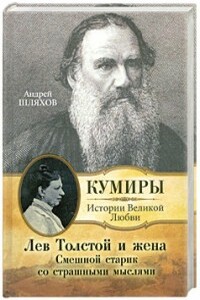Пасхальный детектив | страница 15
Метнулось под неподвижными руками пламя, в соседней комнате заплакал ребёнок, и Сара, прижав его к груди, почувствовала, что душа вернулась и согрела её нежностью, которой она прежде не знала, словно миг страдания обнажил в ней скрытую глубину, возникшую новым измерением. Сара запомнила это мгновение, но не одной из улыбок её Бога, а своим слбственым откорвением и бесконечно важным знанием, которым нельзя поделиться, как нельзя поделиться биением своего сердца… И как тогда, когда она бросилась к плачущему сыну в его комнату, покинув защищающий её круг, Сара стала всё смелее покидать пределы спасительной ясности, в которой обитали прежде её мысли, с тем, чтобы понять в каком мире будет жить её сын. Она пыталась поделиться своими открытиями с мужем, увлечь его за собой, но тщетно.
Дэвид обожал жену, сына и защищал свою страсть — от них… Сара и Ицик стали центром его мироздания, и вокруг них вертелись, притягиваясь и отталкиваясь, все обстоятельства его жизни. Он готов был отдать всё, только бы они были смыслом его жизни и подтверждением избранности… Возникали горькие минуты, когда, просыпаясь утром, Дэвид не хотел начинать унылый марафон. Липла мысль «зачем?», и если бы не мгновенная безусловность ответа: «Сара, Ицик», Дэвид не сумел бы спастись от тоски, что всегда подстерегала его там — в щемящей пустоте, куда он поместил — святынями — жену и ребёнка… Если они покинут это место, что станет с ним — что останется ему? И Дэвид замкнулся — закрыл душу в отчаянной решимости удержать там своё божество, отказываясь понимать то, что говорила ему Сара, теряя её… Расставания, как и встречи, подписываются на небесах, но люди, доверившиеся року, уже не могут прочесть. Дэвид и Сара прожили чужими десять лет, успев родить второго сына.
Оформляя развод и уходя с младшим сыном, Сара сказала: «Спасу хотя бы его» — восьмилетний Ицик остался с отцом. Дэвид к тому времени превратился в семейного тирана, мелочно третирующего домашних в соблюдении ритуальных подробностей, которые легко подавили его прежнее любопытство к природе, политике, искусству — всё стало враждебной суетой. Даже смены времён года виделись ему не цветениями и листопадами, но весенними и осенними священнодействиями, а рассветы и закаты — утренними и вечерними молитвами. Форма его жизни приобрела жёсткость кристалла, потеряв способность к перерождению.
Ицик ходил в школу, где учили только священное писание, и с каждым годом был всё тише. Отца он не выделял из общего фона жизни — его существование было порядком вещей, как водопровод или пакет со свежими булочками, приносимыми к завтраку. Исчезновение матери и редкие встречи украдкой, когда она возникала порывом нежности и аромата, долго было единственной интригой, обозначающей его жизнь. Однажды, на школьной перемене, он стоял в своём любимом месте — в конце коридора у окошка, и наблюдал знакомого паука, хлопотавшего над обессилевшей мушкой, и, вдруг, ясно представил свой чёрный костюмчик и светлые локоны, уже лишённые его Ицика — плоти, висящие на липких нитях рядом с чьими-то пыльными крылышками… Это видение стало преследовать его: книга, чудесные появления и исчезновения матери, пёстрые пятна и звуки чужого Города, отец, булочки, молитвы — всё было паутинками, на которых висело то, что было Ициком.