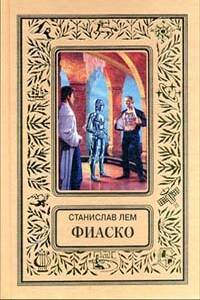Так говорил… Лем (Беседы со Станиславом Лемом) | страница 20
- И потом вы работали под новым именем?
- В мастерскую я уже не вернулся, в семье решили, что здоровее для меня будет жить с родителями (конечно, уже с фальшивыми документами). Я перебрался на Зеленую улицу, где снимал комнатку. Тогда я уже не работал и был на содержании отца. Это был период, когда уже начали говорить о русских и о большом зимнем наступлении.
- А когда же в таком случае вы написали «Человека с Марса»? Разве не в тех мастерских?
- Я написал его незадолго до конца оккупации, когда уже убежал из этого идиотского гаража. Мне там уже страшно надоело, руки у меня были разъедены смазкой и песочным мылом, я постоянно ходил грязный, как трубочист. Вдобавок у нас постоянно были какие-то ночные ремонты. Правда, у меня был ночной пропуск, но мы боялись выходить, потому что было известно, что украинская полиция может расстрелять поляка на улице. А трупу пропуск уже не поможет. Так что приходилось целыми ночами сидеть в этом холерном гараже. Эта история с евреем стала для меня своего рода оказией, чтобы все это бросить. Потом я был уже свободен, записался в библиотеку, мог читать, сколько хотел. Тогда и написал «Человека с Марса», но мне и в голову не приходило, что когда-нибудь я продам его какому-нибудь журналу за 26 тысяч старых злотых. Потом я долго стыдился этой вещи, а во время военного положения какие-то мои поклонники нашли эту повесть, нелегально отпечатали[12] и принесли мне. Я не имел никакого отношения к этой публикации.
- А когда вы укрывали этого своего знакомого еврея, чувствовали ли вы какую-нибудь угрозу, давление со стороны поляков? Кто-нибудь вам угрожал или шантажировал? Вы чувствовали страх?
- Я хочу сказать четко: меня к этому вынудила ситуация. Я не мог ему сказать: «Иди отсюда!» Я знал, что не смогу ему ничем помочь, но сказать такие слова я тоже не мог. Иногда мы правильно реагируем от стыда или из-за робости, а не из благородных побуждений. Я, во всяком случае, не был таким благородным. Но вскоре после этого начал думать: а ведь он (извините за выражение) где-то должен облегчаться, правда? Он сделает это или на чердаке, или где-то в другом месте. Потом будет вонять и кто-нибудь это почувствует. Кроме того, конечно, я смогу ему принести что-нибудь из еды, но как долго это сможет продолжаться? Я не помню уже, сколько это в конце концов продолжалось, но дольше уже действительно было невозможно. Когда он ушел, я почувствовал колоссальное облегчение, но одновременно понимал, что если его поймают, он потянет меня за собой, потому что на допросе наверняка скажет правду. Так что эти дни вовсе не повод для гордости, так как я оказался в вынужденной ситуации. Под таким психическим давлением я никогда раньше не был. Конечно, я понимал ситуацию этого знакомого еврея, но я не мог больше ничего для него сделать.