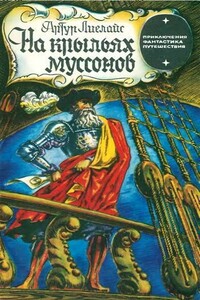Беседы о вирусах | страница 28
— Как же совместить несовместимое?
— Чтобы понять, нужно увидеть. Вирусологи затратили на это 15 лет.
Известно, что в клетках растений или животных наследственные функции несет дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), а рибонуклеиновые кислоты (РНК) выполняют чисто вспомогательные. Однако у многих вирусов ДНК вообще отсутствует, геном состоит из молекулы РНК, причем не только в однонитевой, но и в двунитевой форме, чего нет у других живых существ на земле.
Простота организации вируса подтверждается небольшим количеством генетического вещества, а следовательно, и заключенного в нем объема генетической информации по сравнению с клеткой-хозяином, в которой вирус размножается и которую подчиняет своим потребностям.
Создается явное противоречие: вирус, имея объем генетической информации, в тысячу раз меньший, чем сложно организованная клетка, никогда не оказывается в подчиненном положении, а, наоборот, почти всегда побеждает. Это противоречит всем известным канонам. Понять это можно, лишь предположив, что у вирусов есть какие-то решающие преимущества перед клетками, позволяющие легко их завоевывать и обращать в своеобразное рабство.
До открытия мира вирусов длительные наблюдения за различными микробами и любыми одноклеточными организмами позволили установить, что все они размножаются совершенно одинаково: путем непрерывного, обычно прямого деления, когда из одной клетки образуются две, из них — четыре и так далее.
В течение многих десятилетий процесс размножения вирусов объясняли по аналогии с привычным и так хорошо изученным размножением у бактерий. Непонятной оставалась лишь огромная быстрота, с которой он идет.
Если бы число вирионов увеличивалось даже с наибольшей скоростью, доступной для бактериальной клетки, то есть три деления в час, потомство вируса проделало бы за три часа девять последовательных делений и составило бы всего тысячу частиц. Однако факты не укладывались в эти расчеты, и приходилось допустить, что каждое деление вируса на две дочерние частицы происходит не через 20 минут, а несоизмеримо быстрее.
Первым, кто подсчитал, сколько же вирусных частиц образуется в ходе размножения, был английский вирусолог К. Эндрюс. Заражая бактериофагами культуру бактерий, он установил, что одна частица бактериофага размножается в 100 тысяч раз быстрее бактерии, давая уже через три часа потомство в 100 миллионов частиц. Какого-либо объяснения для столь небывало быстрого темпа размножения вирусов никто в то время предложить не мог.