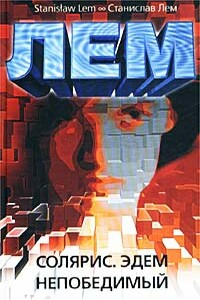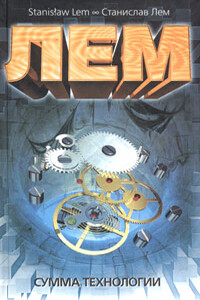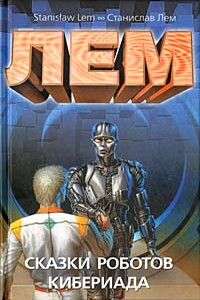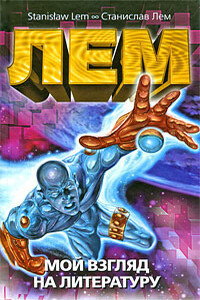Молох | страница 54
2
Тезис епископа Беркли («esse est percipi») вопреки антииллюзионистической диатрибе Колаковского может осуществиться, но только на гораздо более позднем этапе дальнейшего развития «фантоматики». Что же касается также принятой мною гипотезы «nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu», то есть «в разуме нет ничего, что отсутствовало бы ранее в чувственном восприятии», то она является в высшей степени спорной. Позволю себе ниже продемонстрировать это на конкретном материале. Надо признать, что, впрочем, уже было мною сделано, что «фантоматика в пеленках», то есть сегодняшняя, хоть в некоторой степени и предлагаемая на вырост (с намерениями реализовать «сейчас же» так называемый «секс с компьютером»), в силу своего несовершенства и своей, если рассматривать техническую сторону, примитивности, не может соперничать с полнотой активного ощущения яви как переживаемой окончательной реальности. Это потому, что клиенты фантомата нацепляют на себя настоящую электронную «упряжь», Eyephones, Datagloves и т. п. и, как конь в шорах, сжатый подпругой, с петлей на подхвостнике, с уздой на морде, управляемый вожжами (как и ты — импульсами компьютера), не могут не знать, что находятся под некоей властью (конь — сбруи, а человек — фантомата).
3
Итак, на странице 225 первого издания «Суммы технологии» в одном из подразделов я разделил фантоматику на периферическую и центральную, сегодня еще не существующие. Процитирую: «Периферическая фантоматика — это ввод человека в мир переживаний, неподлинность которых невозможно раскрыть». Существует другой вид фантоматики, не периферической (где виртуальная действительность воздействует на человеческие чувства извне), а такой, которую можно назвать «центральной»: она оказывает влияние на органы чувств не через посредника, а воздействуя непосредственно на мозг. До сих пор неизвестно, как можно это делать без нарушения целостности костной и мозговой оболочки. При проведении хирургической операции трепанации черепа осуществлялось раздражение определенных мест открытой мозговой коры, что вызывало у оперируемого переживания, закодированные в его памяти. (Например, при раздражении височной области он слышал — без кавычек, ибо был уверен, что и «вправду» слышит — какую-то оперную арию, вдобавок к тому он «чувствовал», что слушает ее в опере.) Однако то, что могло быть вызвано раздражением мозга во время операции, было столь же непредсказуемым, как непредсказуемым является содержание сна, который мы увидим в ближайшую ночь (