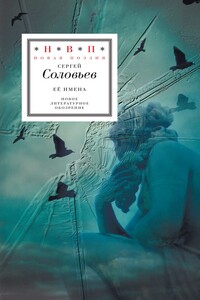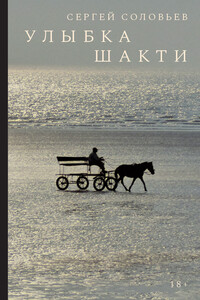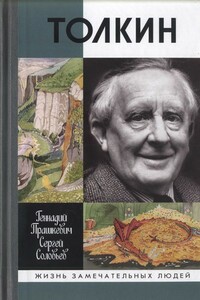Адамов мост | страница 80
Кто? Директор? Индус. А верблюд – семит. Индусы – не нация, не народ, – образ жизни. А она никогда ведь не скажет: вот я, здесь.
Здесь, и уже не здесь. Это мы всё усаживаемся поудобней, пока не сляжем. Или в корабль садимся. Куда? зачем? За вьюрком… Да, или, за руки взявшись, лягут, верхние губы вздернуты, зубы как у старшеклассников, что им солнце? Тристан, Изольда… Спи. Завтра у нас монастырь. Монастырь слонов.
Монастырь слонов
Схватил за руку, крутит, плачет, слезы как кулаки стеклянные падают, а он крутит, тянет, в глаза смотрит. Что тебе, что? Часы? Время?
Руку? Вот-вот хрустнет. Виду не подаю, чуть жив, выпутать кисть пытаюсь. Обвил хоботом, в узел стянул, выкручивает сустав и плачет тихо, беззвучно, в глаза смотрит. Потом узнали. Нельзя подходить к этим, в течке. Гон в сердце, нервы, пора любви. А нет их, женщин.
Монахи с младых ногтей. Их свозят сюда, детей, со всей Индии. Растят в схиме. Нельзя к ним, когда текут. Убили на днях гуру. Не первый.
Рвут хозяев. А этот? Не плачет, нет, но что-то с его глазами. Слеп.
Слон – слепой? Как же он ходит в шествиях, храм, улица? Хоботом ходит, чувствует. Водит у твоего лица, дышит. Колкий, горячий посвист. Будто иголки в легких. Запах соломы, мокрой, прелой. Кожа в трещинах, как вода ушла. Стоит, раскачиваясь над веткой, прижав ногой, не ест. Глаза как камешки бирюзы. Хозяин проходит мимо, ведет рукой, тот поднимает хобот, повторяет его движенье. Опустил. Нет, замыленные глаза и почти сухие. Поднял голову, смотрит поверх наших лиц. Нет, как слежавшийся снег, серый, в лунках. Хуторок пальм, обнесенных стеной. Сто восемь слонов-монахов. Цепь от ноги к стволу.
Как корабли стоят, опрокинутые, покачиваясь. А пальмы – как якоря в небе. Ошибка, говоришь, люди – это ошибка. Все должно было быть не так. На траву садишься. Люди, это и есть ад – в раю. Мангуст пробежал, обернулся. Улыбнулась, так и осталась с улыбкой. Пойдем.
Лежит, развалился в неге. Трое над ним со шлангом, льют, скребут, моют. Четвертый сидит у ноги, педикюр делает. Нож, тряпка, палочки для прочистки. А тот счастлив. Вот уж точно как слон. Рот разинул ковшом, голову приподнял, смотрит на свой хвост, млеет, вздрагивает и роняет голову, глаза закатывает, пукает, хвост антенкой. А эти, мойщики, поглядывают на нас, смущены, улыбки прячут, опустив подбородки. Струя из шланга чешет ему живот, пах, бедра, а он ногами сучит, хрюкает, хоботом дирижирует, выхватил шланг, льет на себя, на мойщика. – Гха-гха! – кричит на него педикюрщик, взмахивая ножом, а тот еще пуще – на спину заваливается, поджимает ноги, и пукает, и хохочет разинутым ртом, и метет хоботом по земле. Мойщики отступают, ждут, переглядываются. Мол, как дитя малое. Стих, смотрит на них лукавым глазом, тянется хоботом, трогает за колено – того, со шлангом. Лужа вешняя, русская, туча лежит в ней, а поверх облака текут. А по ним три индуса ходят, голые, с запахнутыми бедрами. И еще два вихляющих отраженья: между ножом и шлангом – наши.