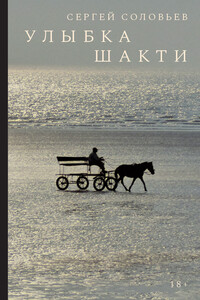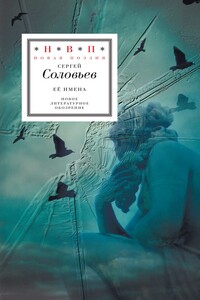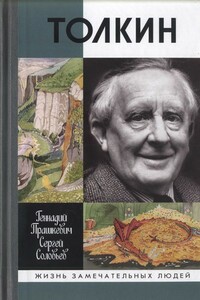Адамов мост | страница 37
Вон, смотри – океан! Нет, это воздух лег, как стекло, плашмя, там, за краем… – А вот как ты думаешь, – вдруг говоришь, не оборачиваясь от окна, – Розанов – добрый? Он ведь очень умен. А может ли человек с острым умом и зоркой памятью быть добрым? -
Думаю, да. Душа и ум не в одну дудку дуют. И чем глубже они, тем сложней их связи. А почему спросила? – О Сосноре думаю. Он ведь… злой. В лучших своих вещах – злой. И чем злее, тем выше вещь. Или наоборот. Ну, ты понимаешь, я не о человеке говорю, а о прозе, ее нраве, ее веществе. В русской литературе такого не было, чтоб столько злости, как молний в туче, и света. Цветаева. Не случайно он ставит ее так высоко. За верхнюю ноту, за верность дару. Как проба его – в воплощении жгучем, женском… Нет у него читателя, и трудно представить себе, что будет. – Отвернулась к окну, глаза прикрыла.
Да, думаю, перебирая в памяти, – а с кем говорит он? С травой, грозой, солнцем. С лошадью, псом, овцой. Людей нет: “низкий уровень психики”. Разве что с мертвыми. А о ком пишет, спешиваясь? О
Тамерлане, о Цезаре, о полку Игореве… Воинов пересчитывает, часовых расставляет, поит коней, чистит оружие. А откуда идет, кому наследует? С лету не скажешь ведь. Да, автор “Слова…”, да, Гоголь, да, Хлебников… Но ведь да и нет. Какой-то сдвиг на пути между ними. И в нем, и в расщепе пера – как меж Никоном и Аввакумом. Щемь и гул, будто тяга печная, только дом не здесь, не с людьми. Это трудно сказать, это дует и зябнет, как руки Акакия, эта жалоба губ… Но ни губ нет, ни рук, – это ангел из Апокалипсиса в гулком пламени, как ребенок в шинели, сидит.
Молчишь. Потом оборачиваешься ко мне. Эта щелочка между зубами верхними с твоим мягким “ш”. – Знаешь, – говоришь, – чувство такое, будто мы давно вымерли. Насекомые отношения, насекомая литература. А он эти слои, где мельтешат крыльями, без единого взмаха проходит, в таком звонком небе идет, где нам жить и жить бы, да уши закладывает на полпути от его простых слов – глаголов и существительных, от живой речи, в которой нас нет. Помнишь, как они называются, эти ритуальные плошки железные? Тронешь их пестиком – звон идет, а ты по ободку пестиком водишь, и плошка поет долго-долго. Вот так и слова у него – каждое с каждым, всей книгой. Ведь это не точность, не певчесть… А что? Вот когда душа отлетает или вселяется – этот сдвиг происходит, это прикосновенье. У других – лучших – это время от времени. У него же – почти всегда. В прозе. А стихи его для меня загадка. Не чувствую их, не вижу. А ты? – Автобус тряхнуло, и он осел в яму. Радостно высыпали, подхватили, вытолкнули. Индийские танцы в салоне по телевизору возобновились. Главный ухарь, играя бровями, выплясывал, сужая круги к своей избраннице. Ватага его друзей разбрасывала руки и ноги во все стороны. Поразительно, мужчины, при их пластичности, в танце именно так пародийно-несуразны, этот по-детски угловатый экстаз свободных конечностей. Избранница колыхалась, то прибавляя, то убавляя пламя.