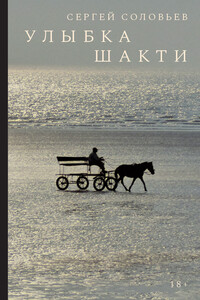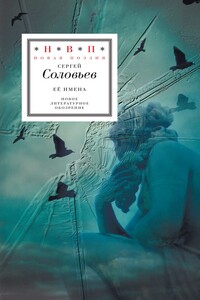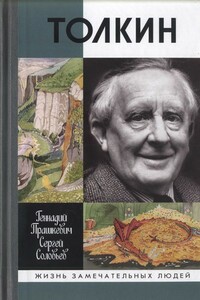Адамов мост | страница 32
Нет, говоришь, у меня имени. Моим ты меня не зовешь, а другими, придуманными, не ладится. Однодневные. Как мотыльки. Это и в литературе трудно – с русскими именами. Пятятся, без вины виноватые.
Вот и у меня нет. А Манора – хорошее имя. Сколько до нее – часов пять? Если на быстром автобусе. А у них их – как букв в алфавите.
Поди разбери – какой козьими тропами едет, а какой по шоссе. Они-то, конечно, исписаны от колес до крыши, но что там – маршрут или главы
“Махабхараты”… Часов пять, если по шоссе, но оно туда, кажется, не ведет.
Это был вечер, январский, жара спала – от сорока полуденных до двадцати пяти. Мы находились в маленьком городке с непроизносимым именем, в непроглядной стороне от океана и неясности в отношенье всего на свете, кроме Маноры, до которой полдня езды неизвестно на чем и зачем. Свет в городке отключили. Мы высвечивали фонарем все, что двигалось и дышало: тени ветвей под ногами, двух пегих коз, стоящих во тьме на задних ногах у городской тумбы. Они обдирали цирковую афишу, то приближаясь к ней с высунутым языком, то отходя, пританцовывая. Тень человека ткнула в черную стену воздуха: “Сурия”.
Мол, там – солнце, кафе, – все, что мы поняли. Тень исчезла, рука осталась висеть, светясь, угасая. Мы продвигались по черному безлюдному переулку в поисках солнца. Справа, в луче фонаря, ступени вниз, ворота, обводим лучом: головы пучеглазые, хвосты, хоботы, чешуя, переплетенье тел, рук. Тронули дверь, открыта. Коил – так они называют, – храм, монастырь. Ни души, свечи перед Ганешей в нише, едва теплятся, тают. Темень. Топоток в глубине двора – пес на низких лапах бежит вдоль стены, нет, крыса. Храм огромен, луч скользит по стене вверх, а крыши все нет и нет. Огибаем его. Дворик, священное дерево. Баньян? Пипал? Листья острые, пипал. И растет оно будто из шахматной доски во весь двор. И на доске этой будто разгар партии. И фигуры – в рост человека на корточках. Фонарь приблизил: кобры!
Каменные, как погост их. И тряпкой подвязана каждая – под грудью. 9 января, полдевятого вечера, день рожденья – мой, ровно. Выходим, от стены отслаивается фигура, подходит сбоку, вплотную, так, что едва не касается губами моей щеки, дышит в нее: “Тише… Кали спит…”
Отдаляется. На нем красная короткая тряпка, туго стянувшая бедра, – будто разрезан надвое и запеклось по шву. Ноги идут – голые, длинные, молодые. А над ними – сто лет с ветхой сухенькой головой.
Идет, подбородком прижав тело – будто холст, в рулон свернутый, с обмелевшей краской.