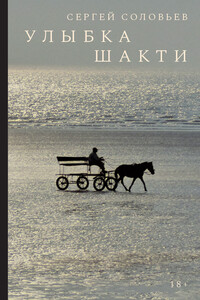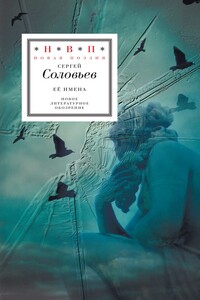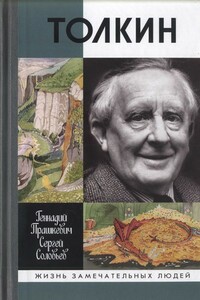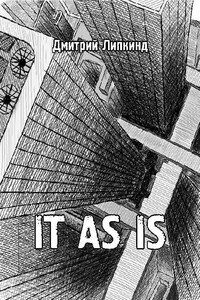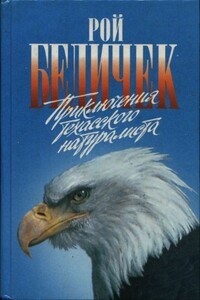Адамов мост | страница 20
Мёбиуса: внешнее – внутреннее, внешнее – внутреннее, есть шарик, нет шарика, – не ловится, не ухватывается. Все текуче, легко, певуче, – вода, глина, а чуть тронь – магма. Пугало воткнул в огороде и лупит палкой его. Пугало Запада лупит по самым его уязвимым местам. Зачем?
А Аввакум зачем? Может, природа огня такая? Да, говорю, как нефть горит на воде. Горит и не тонет. Да, наверно. Взять хотя бы его канву, что мы знаем? Русский с прививкой персидской крови. Родился в
Баку в конце сороковых, послевоенных, дед – суфий, бабка – знахарка, отец – кремлевский чин, генерал, страсть к лошадям, белые скакуны под Берлином, цыгане… О матери ни слова. Детство в Баку, особняк, мандалы ковров над кроватью, караваны верблюдов, закаты в тяжелых рамах. Детство на крышах, лисица, сброшенная в колодец двора; летит, шнуруя его огненной нитью, лежит со сломанной головой и открытым глазом, еще живым, смотрит ему в лицо. Лужица крови, чуть красней, чем ее язык, в ней подрагивающий. Москва, Суриковское, ВГИК, богема,
Рига, самиздат, йога, смерть отца, тюрьма, вместо “инакомыслия” пишется “изнасилование”, пять лет, перестройка, вид на жительство в
США, Германии, Индии, выбирает Индию, ходит в рубище с палкой, годы,
Ришикеш, верховье Ганги, один живет, пятнадцать лет, принят в свами, пять языков, включая хинди, санскрит читает. Шаль багряная, точеный профиль, борода с проседью, усы вверх подкручены, кардинал, как ты говоришь, Мазарини, настоянный на Гималаях.
Хлебушек, говорит, вкусный, жаль, масло кончилось. Смотрит в окно, поезд идет на юг. Но соль осталась. И, поглядывая на диктофон: в алхимии соль – Меркурий. Да, говоришь, соль земли. Но эта какая-то странная. А! Это черная соль, хотя на вид розовая. Гималайская, вулканическая, немного яйцами пахнет. Да, принюхиваешься, тухлыми…
Будем вкушать хлеб, говорит. Что есть знанье цветка или яблока? Это когда ты становишься им – ароматом, вкусом. А хлеба? Когда ты становишься и зерном и водой, мужчиной и женщиной, их слияньем, – в печи, в утробе. Положили хлеб в рот, и двое стали одним. Это – знание. Прочее – представление…
Видно, их двое там. Один спит, другой поезд ведет, поет. Весь характер его в этом звуке, который и гудком не назвать, – песнь. Да и песен ведь нет таких. Что ж за музыка это, кто бы мог ее петь? Не человек, не камень, не дерево, не огонь. Кто? Кто, незримый, ее переводит, эту девочку времени, через небо, поля, через все это светлое, смертное, на иголках, переводит ее, эту девочку, а лицо ее, запрокинутое, слепое, старше земли, да и время ей кто – мачеха? Этот голос – долгий такой и дальний, с дымом, с домом пустым и теплым еще, как в ладонях лицо. Нет таких у людей ни голосов, ни чувств, ни памяти. Поет, будто сердце свое распускает на нити, изводит на тропки, где тонко, где ты. Будто мосток перекинула в небе, шаткий, – куда? Идет, незрячая, запрокинув голову, и поет, нет столько воздуха у живых, чтобы так долго ветвить эту ноту, не переводя дыханье. Даже мелодией не назвать. А вся жизнь ложится в нее, как в лодочку, и отчаливает, и плывет без весел вверх по теченью, в небо. А мы сидим с тобой в тамбуре, на подножке, и земля плывет перед нами, как свиток, к югу разматываясь, как свиток света, молочно-медовый, сновидческий, с влажными буквами на просвет, нечитаемыми, как боги, и глазастыми, как стрекозы, зависшие над водой. А он все гудит, поет, там, далеко впереди, во времени, этот девочка-машинист, эта гусеница железнодорожная, этот трепет заката, бабочка света, насаженная на иглу. Только голос в груди еще длится, жмется к окнам и отпрядывает во тьму.