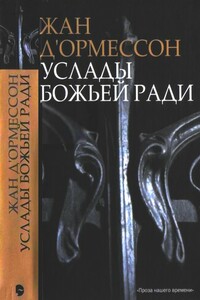Клеменс | страница 49
За что меня наказали памятью?..
Почему, Господи Боже мой, она так уродлива, словно в детстве ее похитиликомпрачикосы! Доска – два соска! Нет, я не сравниваю ее с абстрактными цирцеями, но, знаешь, ведь если б она жила всего век с небольшим назад, то непременно носила б турнюр, подпихивала бы куда следует вату, то да се – чтоб придать хоть какую-то округлость, хоть какой-то рельеф своим двумерным телесам. Хотя помогли бы ей эти уловки со мной? Вряд ли. Ведь я всегда помню, какова она от натуры.
Да, я об этом помню всегда – равно как и о том, что она, в соплях, довольно долгий период времени ползала передо мной на брюхе; я не забуду этого никогда – и она знает, конечно, что я помню об этом, и потому старается показать, что это была не она, да и сейчас она – не она, а какая-то другая… Уффф! С ума свихнешься от ее кривляний…
Иногда бывает так, что, пересказывая ей книгу, или фильм, или просто реальный эпизод (я сливаю в нее, как и другие, – мне как супругу, слава Богу, не отказано в этой милости для всякого встречного-поперечного), я говорю, что такая-то в итоге покончила жизнь самоубийством. (Речь идет о любовных делах.) При этом жена всякий раз взирает на меня с невероятным удивлением, в выражении ее лица возникает даже – сильно преувеличенная – придурковатость. Весь ее вид показывает: фуй, как странно… "Я не поняла только… я только одного не поняла как-то… почему она кончает с собой?.." Ах, ну да, жена изображает "свободную, гордую, независимую женщину": ей
искренне не понятны мотивы самоубийства от любви.
Мне хочется крикнуть: а не кажется ли тебе, чучело ты огородное, что погибнуть от любви – уж всяко красивей, чем существовать так, как существуешь ты? Ты просто завидуешь, кура, человечьей отваге, страсти и цельности!
Боже мой, Клеменс, если бы ты знал, как мне скучно с этим пугалом!
Как женщина она для меня не существует, я давно обрек себя на вынужденный целибат, но даже как собеседник – как простой собеседник – она представляет собой просто минус-величину. Эх, да что там!
…Ребенка из нее доставали, конечно, кесаревым. Она никогда не хотела детей. И если б это проистекало от выстраданных убеждений, я бы такие установки уважал. Но все ее "установки" проистекали от малодушия, эгоизма, нежизнеспособности, лени. В свои двадцать лет на чей-либо вопрос о ребенке она непременно взвизгивала: "Мне еще не тридцать!", в тридцать: "Мне ужене двадцать!" Когда ребенка из нее все же извлекли (таз у нее, разумеется, нежизнеродный, узкий, словно тиски, – там бы и мышь застряла), выяснилось (невелико открытие), что она совершенно не способна за чадом ухаживать. Она была неспособной взять его на руки, не умела кормить (молока у нее, конечно, не было – я имею в виду: не умела кормить вообще), не умела пеленать, стирать, гладить, баюкать, говорить ласковые слова – она не умела любить – и не смогла этому научиться, словно была порченой, да она, видимо, таковой и является, умея лишь принимать лживые позы, страстно и неуклюже себя жалеть, мелкодушничать, ныть, болеть всякой женской дрянью (единственное проявление ее "женственности") – и быть в претензии ко всему свету.