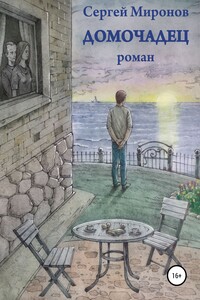Роман с простатитом | страница 6
Вообрази про унылого сторожа-татарина, что он китаец, – и глаз не сможешь оторвать. Когда рассыхающиеся кирпичные корпуса нашего мехзавода в наиболее растрескавшихся местах наконец просыпались насквозь (металлические внутренности, вспыхивая в адском пламени вагранки – что битва при Ваграме! – проглядывали таинственными, а потому грозными и прекрасными), зияния закладывали уже простыми неотесанными камнями. И что за неуловимо устроенные узоры складывались из этих скучных булдыганов, вмазанных в известку, – какое многозначительное сходство с сорочьими яйцами обретали затянувшиеся дыры!
Я много лет жил в предвкушении, что все в мире делается не просто так, а что-то еще и означает: когда-нибудь явится некое
Нечто и откроет нам, что нестоящих пустяков на свете просто-таки нет, – и все окажется значительным. А из-за чего мы грызлись и восторженно галдели – что высоко перед людьми, то мерзость перед
Нечтом. Дыхание Нечта, казалось, касалось и бесхитростных душ сочинителей мелодрам: тряпка оказывалась обрывком царской мантии, театрального занавеса, пеленки с монограммой, по которой будет опознан графский сын… В мелодраме, как и во всяком подлинном, то есть свободном, то есть оторванном от жизни искусстве, у людей не схватывает живот, они не рыгают, не портят воздух и ничего не извергают из себя: вся эта сортирно-больничная гадость в подлинно человеческом, то есть духотворном, мире нужна еще меньше, чем благородные откупщики или мудрые дилеры – нужному место в нужниках, капищах Правды,
Жизни Как Она Есть.
Наш клепаный сортир-резонатор всю ночь выжидательно вибрировал на ветру, как самолет перед стартом, но цинковое ведро за печкой справлялось с этим делом еще циничнее. Когда мать в темноте пробиралась на кухню, за печку, я изо всех сил утыкался лицом в подушку, стискивал уши и принимался исступленно бормотать: “У попа была собака, у попа была собака…”, чтобы заглушить все равно остающийся внезапным и незаглушимым металлический грём…
Тупое господство Простоты над нашей бесконечной сложностью я ощущал, пожалуй, чаще с недоумением, чем с обидой: да неужто и в самом деле, если проделать в человеке – во мне, в папе, в маме, в Ленине – отверстие, мы обязательно перестанем жить?
Потому-то я никогда не понимал, как это можно – развернуться и звездануть человека по зеркалу души, чтобы оно чмокнуло, чавкнуло, мотнулось, подобно неодушевленному предмету? Чтобы искоренить в себе эту позорную слабость, я даже пошел в услужение боксу – и не без успеха: удары гулкие, как в бане, стремительные, как у нырка, нырки у меня были вполне, – но только на тренировках, когда я знал, что мы с партнером вместе играем, а не в самом деле так уж хотим шмякнуть друг друга на пол, как мешок. Самое отвратительное в драке – торжество простоты: столкновение душ решается в низшей инстанции. Это у скотов пускай все вершат рога и копыта!