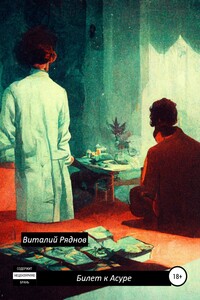Роман с простатитом | страница 19
“положение”…
Что же все-таки во мне находили женщины, любивш… нет, это была не любовь, а зародыши благоговения перед просвечивающим сквозь меня Черт Знает Чем, которые они, по невежеству, стремились, удушая, втиснуть в любовные формы? Талант? Да не такой уж.
Доброта? Я знаю множество людей гораздо добрее меня, вечно поглощенного какими-то химерами. Однако тонна их доброты ценилась дешевле, чем миллиграмм моей. Женское сострадание? Но оцарапай пальчик юный красавец – и сотни женщин ринутся на помощь с ваткой и йодом наперевес, а сломай последнюю руку старый безногий алкаш – “Фу, какой противный!”. Женское сострадание – только одна из форм полового влече… не полового влечения, а любви, которая с влечением лишь случайная соседка по тюремным нарам.
Одна из моих обожательниц, медсестра, говорила, что от меня исходит свет; другая, ученый секретарь и доктор технических наук, – что затасканные истины и потасканные стихи в моих устах звучат как будто впервые… Но для всех для них я был форточкой
Куда-то – все они, словно в недостающем витамине, нуждались в
Чем-то и ошибались лишь в том, что стремились Им как-то завладеть: съесть зарю, выпить стихи, обнять тайну…
С огорчением прибавлю, что почти столь же часто встречал я людей, с первого взгляда проникавшихся ко мне живейшей, задушевнейшей ненавистью, хотя я не делал им совершенно ничего плохого, равно как первым – хорошего. Но они не желали, чтобы позади понятного и полезного существовало еще Что-то.
Через полчаса кастелянша в своем неприятно-больничном халате заглянула в мой персональный ледничок, с вгоняющей в жалостную неловкость игривостью поинтересовалась, почему я не иду на танцы. Годы не те, ответил я с мягкостью принца, путешествующего инкогнито: не смущайтесь, мол, будьте сами собой. Еще через полчаса она занесла мне “козла” – дышащую опасным жаром самодельную спираль, могучую, как огненная траектория вошедшего в штопор горящего самолета. А еще через полчаса она постучалась уже в чем-то парадном, снова до жалости вульгарившем ее, зато с трогательным школьным воротничком под взбитым (“Вшивый домик”, – опустил я глаза) космическим пламенем. “Может, изнутри хотите согреться?” – она зарделась как девочка, вынимая из слишком
“изящного” для нее “ридикюля” распершую его бутылку престижного портвейна, если не ошибаюсь, “Три семерки”, он же “полковничий”.
Гулко пристукнул о фанерный столик штопор с чугунной рукояткой, веской, будто деталь мясорубки.