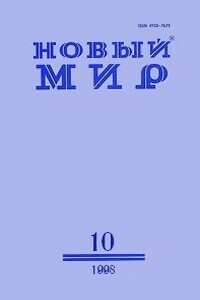В долине блаженных | страница 21
Божественные купы, божественный дух горячей сырой земли – и вот мы уже перебираем ветхие машинописные листочки: оказалось, таинственный
Маркман из деревни Долгий Мост еще и писал стихи.
От звериных лап царапины
Далеко уводят за погост.
Оттого ль зовут деревню Лапино?
Бездорожье – Долгий Мост.
Чем меня особенно пробили эти звуки – /оплаченностью/. Оплаканностью.
Где-то плачет безутешно маленький,
Колыши не колыши.
Кто-то ходит тихо, будто в валенках,
По дремучей по лесной глуши.
Маркман умер в день освобождения. От заворота кишок – врачей в
Долгом Мосту не водилось. Я с пониманием потупился: что ж, не каждому выпадает удача пасть от сабельного удара или уж хотя бы от разрыва сердца… Но мы должны с достоинством сносить даже издевки судьбы!
Его квартирная хозяйка, простая из простых тетка, в каленый мороз добрела до Лапина, чтобы спросить у дяди Сюни, по какому обряду хоронить новопреставленного еврея: мож, вы хочете как-то по-своему?
У нас нет ничего своего, ответил дядя Сюня.
Белый снег летит лопатами,
Колыши не колыши.
Стороной прошла судьба горбатая,
За окошком, по лесной глуши.
Но это же надо напечатать, всполошился я: людям – это ужасно, но что поделаешь! – и полагается умирать. Но стихи-то должны жить! Что ты как маленький, грустно улыбнулась Женя: Маркман – лагерник, кто это напечатает!.. И до меня с величайшим скрипом начало доходить, что
/они/ таки могут достать до /нас/. И даже отнять самое драгоценное – шанс на посмертное существование. И я поскучнел, поскучнел…
Поскучнел.
Однако дурь, то есть любовь и молодость, за день-другой свое отвоевала. Во мне вновь налилось и окрепло убеждение, что талант и благородство бессмертны и недосягаемы для тупиц и негодяев (коими, как мне почти без слов внушили папа и дядя Сюня, только и могут быть антисемиты, и я долго блаженствовал в этой еврейской сказке, пока не сделал грустного открытия, что и антисемитская сказка может овладевать сколь угодно талантливыми и бескорыстными людьми). И когда я, настойчиво постукивая, пересекал днепровские стремнины по направлению к ридной неньке Вигуровщине, я уже вновь бессознательно приглядывался к утренним пассажирам, какой бы мимолетной выдумкой подгримировать каждого из них. Однако уже от четвертой своей клиентки я не смог оторваться: по-девичьи тоненькая, с девичьей, перебираемой ветерком стрижкой, в девичьем цветастом сарафанчике и девичьих очках в форме наивной стеклянной бабочки, но вместе с тем явно вошедшая в тот возраст, который для моего воображения был наглухо отгорожен забором почтительности, она с едва различимой улыбкой просветленно смотрела навстречу утренней заре поверх собравшихся у борта голов. Она была так интеллигентна и поэтична, что я решил считать ее переводчицей… скажем, Ронсара.