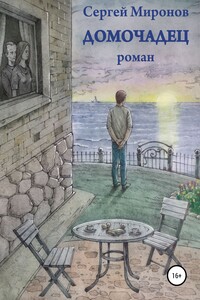Еврейский Бог в Париже | страница 14
– Я не знаю.
– Но она же обещала!
Меня несло, я обнаружил, что ни о чем, кроме как о ней, не могу говорить, сука, сука, меня трясло от возмущения. Мне некого было грузить, остановиться я не мог и продолжал грузить эту маленькую чуткую душу.
– Ты ей скажи, что она не права,- снова начал я.- Нельзя так в
Париже мучить друг друга.
Он остановился.
– Если ты взял меня с собой, чтобы говорить о маме, я уйду.
– Прости.
– Я и так все время думаю о вас. У меня голова болит. Тебе что, плохо со мной?
– Знаешь, как мне с тобой хорошо? – сказал я.- Знаешь?
– Тогда пойдем,- предложил он, как взрослый.
И мы пошли по Шанз-Элизе, двое мужчин, большой и маленький, и больше ни о чем не жалели. Я перестал нести чепуху и стал рассказывать о бароне Османе и о глупом опереточном Наполеоне
III, о его непомерных амбициях, создавших эту прекрасную улицу, какой мы ее видим, о попытке карлика стать на цыпочки, чтобы сравняться с великаном, висящим у меня на шее, о войсках коалиции, входящих в Париж под Триумфальной аркой, выстроенной совсем не для этого, я рассказывал о мире как о поле, которое засевают одни, а урожай снимают другие, о мечте и действительности, весь Париж был на стыке мечты и действительности, нигде в мире они так часто не совпадали, я рассказал маленькому о Гюго, великом поэте, и об его завещании – переименовать Париж в Гюго.
– Он так любил себя?
– Он так любил Париж.
– Папа, ты не понимаешь, он так любил себя.
Завещание Гюго очень удручило малыша, я пожалел о своем рассказе.
– Он был дурак, твой Гюго.
– Он написал “Отверженных”, самую трогательную книгу о человеческом сердце.
– Но больше он был дурак или сошел с ума перед смертью.
И не нужно было доказательств, мы шли по лучшей в мире улице, обе стороны которой зеркально отражались друг в друге, толпа текла, самодовольная и томная, из одного конца в другой, и мягкое ее течение очаровало нас и подхватило. Мы шли издалека и давно в этой толпе, шли туда-сюда, туда-сюда, усталости не чувствуя. Изредка я предлагал ему присесть, он отказывался, он не думал о ногах, мысли его были заняты совсем другим, я никогда не узнаю – о чем думал мой сын в тот вечер в Париже на
Шанз-Элизе, тяжести или счастья прибавила ему эта первая наша мужская прогулка, я никогда не узнаю, действительно был ли он занят тем, что происходит между его мамой и мной, и какими тенями эти невеселые рассуждения легли на его душу. Если проживу еще несколько лет и она не отберет у меня детей, обязательно спрошу.