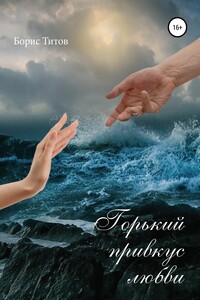Еврейский Бог в Париже | страница 12
“Ну началось,- подумали они.- Еще один бежит”.
В отместку я мысленно обозвал их круассанами. Круассан 1, круассан 2 и 3.
Сена лежала лицом ко мне, как любимая, чуть-чуть приоткрыв припухшие от сна губы для почти молитвенного прикосновения, и движения мои из гимнастических стали ритуальными, руки вознеслись к небу, а жирок, я позволил себе раздеться, трепыхался в такт движениям. Я жалел, что круассаны не могут видеть серебряный медальон на шее, когда я бегу, медальон блестел на солнце и болтался, невозможно разглядеть профиль мрачного человека в треуголке, скрестившего на груди руки.
Императора подарил мне близкий мой друг, нашла на него блажь – сорвать с себя в мой день рождения семейную реликвию, сто двадцать лет назад приобретенную здесь, в Париже, он подарил мне ее со всеми своими болячками, которые пропитали медальон, пока он висел на теле этого очень нервного, очень талантливого человека, он так упорно испытывал себя на прочность, что теперь не выходил на улицу без шприца и инсулина и кололся в любом месте, где заставал его приступ диабетической болезни. О, он был титан саморазрушения, в этом проявлялась наша близость, в нем жили детское презрение к смерти и какая-то мрачная уверенность, что, встретив, он ей покажет кузькину мать. А пока, кроме диабета, у него болело сердце, подгнивала нога и очень портился характер.
Не знаю, что думал о моем друге император, но даже его терпеливый организм всеми этими напастями пропитался, и, восторженно приняв подарок, я вскоре почувствовал, что болезни моего друга и императора плавно перешли ко мне. И сердце пошаливало, и нога подгнивала, и потянулась рука к шприцу.
И тогда она решила прекратить безобразие и освятить медальон, так решались в нашем доме многие проблемы, она даже меня крестила, когда я вышел из больницы живым, хотела, вероятно, закрепить свой договор с Богом по поводу меня, какое-то обещание, содержание которого я не знал, но покорно крестился в попытке обуздать себя еще один раз, правда, покоя так и не обрел, по-прежнему не чувствуя ни к чему себя приписанным.
Представляете, как был недоволен император, когда его окунали в святую воду, но действительно выздоровел, а вместе с ним и я.
А пока болтался медальон на шее, давая мне право чувствовать себя в Париже своим.
Бомжи окончательно проснулись. Один из них разлегся и стал болтать ногами в воздухе, явно меня передразнивая, другой достал из-под скамьи термос, отвинтил колпачок, налил в него что-то дымящееся, отпил два глотка, передал первому, тот, забыв обо мне, уселся, с удовольствием потягивая кофе, а третий круассан вообще не стал дожидаться, а резко поднявшись, отошел к стене, и в это время ударили колокола Нотр-Дама, я замер, даже те двое, пьющих, прислушались, но в поведении третьего ничего не изменилось, он так и остался стоять у стены спиной ко мне, пока били колокола Нотр-Дама. Что он делал, этот чертов круассан, второй или третий? Что он там делал, когда забили колокола уже во всех парижских церквах, когда цветочницы выносили горшки с цветами и ставили их на землю для продажи, когда букинисты вставляли ключи в замки своих ларцов перед тем, как поднять крышку, когда служащие Лувра чистили униформу для встречи посетителей, когда подвозили лоток с мороженым к Люксембургскому саду и первый утренний парижанин-посетитель уже водрузился на стул со свежей газетой в руках, когда забили фонтаны, запели птицы, каменщик приладил кирпич к недостроенной стене на площади