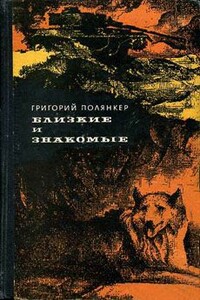Близнецы | страница 51
Над головой пролетел снаряд. Нет, судя по вою, это ракета. Ракету очень легко узнать: приземляясь, она изменяет голос и переходит на тихий свист, так что секунды за две до взрыва ее не слышно уже совсем, и, если все перестанут плакать, можно “шма исраэль” успеть.
Слушай, Израиль! Слушай меня сюда. До войны здесь жило полмиллиона.
Сейчас их стало почти что два, если всех этих рубленных в красный борщ овощей, лежащих в госпиталях, потомки будут считать живыми. Но это вряд ли. Кого считать? У меня отснято пятнадцать пленок, и ни один из тех, кого был портрет, до проявки не доживет. Мне пора бы уже разобраться с сумкой, а я стою и смотрю на дым, и ровный гул человеческой саранчи рассыпается бисером на приказы, указания, стоны, брань.
Во рту прогоркло, песок и кровь, невозможно сплевывать – пересохло.
У меня в кармане лежит ирис – как молочная радость для коренных, потемневших от табака. Вчера я дал половину пачки какой-то беременной вдрызг мартышке, с целым выводком лягушат, – этим вспученным животам уже ничто не бывает вредно – интересно, не интересно, как далеко им дадут уйти.
Вместо ириски сунул в рот мятую мятную сигарету. В голове, я помню, шумели – дед, Палома в приступе долгих сборов, французы с их постоянным merde! и легкой песенкой Джо Дассена. И такое вокруг спокойствие, что ни дернуться, ни вскочить, но гудит звонком запоздалой почты: вам посылочка из России, с жестяным охвостьем чужой войны, – на дымок ментоловый опускалась хреновина класса
“земля-земля”.
Двор качнулся навстречу перекошенному лицу, и сознание сразу же отлетело мотыльками наискосок. Надо мной отчаянно суетились косенькие врачи. Пномпень, не выстояв ночью, пал от вихря алых кхмеров – прошу, считайте меня живым, рядовым запаса, бойцом закоса, офицером комы, в конце концов.
Отчима выпустили домой через пять недель после нашего с братом бегства. Что-то сухое и полое, как стебель сушеного камыша, треснуло в бочке его груди, и теперь он посвистывал и сипел в разговоре и при ходьбе. Он почти не вскрикивал по ночам и сам не трясся от громких звуков, но протухшей ягоды мелкий страх перекатывался внутри и пованивал говнецом. Мать, казалось, потухшая навсегда, стряхнула груз недостиранного белья – с тупым чавком на дно лохани, не выпускала его руки из своих, как рашпили огрубелых, и соленая улыбка счастливой рыбы пузырилась на полных ее губах.
Еще несколько раз, потом, накачавшись валокордином, Александр