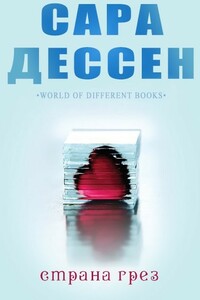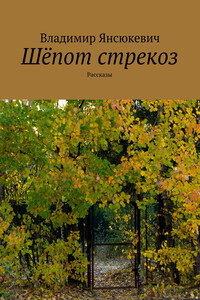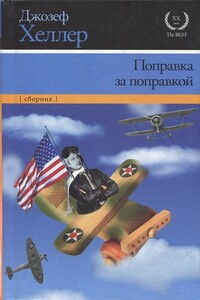Лишняя любовь | страница 35
“Русского архива”, “Исторического вестника” и т. п. изданиях, затем сделать выборки из “Библиографического словаря”, а там пойдет само”, – любезно объяснил Борис Михайлович.
Да, все пошло само, но каждый шаг вперед оказывался в Ленинской библиотеке скачкой с препятствиями. Стало легче, когда я получила билет в специальный читальный зал. Он размещался на хорах блистательного общего зала. Не надо забывать, что
Ленинская (бывшая Румянцевская) библиотека занимала знаменитый дом Пашкова. С хоров можно было заглядеться на длинные черные столы, выделявшиеся на фоне белоснежных колонн, на сиянье хрустальных люстр, на безукоризненный ритм в расположении лепнины на потолке и карнизах. Пропуск в спецзал мне помог получить Ираклий Андроников. переехавший в то время из
Ленинграда в Москву. Мы с ним подружились.
Все это вместе сливалось в цельное ощущение чего-то нового, вошедшего в мою жизнь. Я убеждена, что любовь к своему делу, помимо прямого содержания работы, питается еще влюбленностью в аксессуары, сопровождающие этот труд. Такое сочетание и создает чувство призвания, найденной дороги.
Между тем проблема “шестнадцати” была исключительно трудна. В литературе были названы только десять участников этого кружка, и то по одним фамилиям, без инициалов и званий. Даже такие знатоки дворянских родословий, как корифеи Литературного музея Николай
Петрович Чулков и Степан Ильич Синебрюхов, утверждали, что установить их личность совершенно невозможно. Тем не менее, посовещавшись с Ираклием, я решила обратиться к “Высочайшим указам”, так как, по суммарной характеристике этих товарищей
Лермонтова, многие из них успели уже повоевать на Кавказе.
Однако опять – препятствие: переплетенный том “Высочайших указов” читателям Ленинской библиотеки не выдавался. Выручила библиотека Исторического музея. Там меня надоумили, что высочайшие указы печатались также и в военной газете “Русский инвалид”. В Историческом музее сохранились номера за все годы. И тут счастливая находка: оказалось, что в конце номера регулярно печатались мельчайшим шрифтом списки приехавших и уехавших из
Петербурга. Когда из этих скучных столбцов стали выныривать имена Лермонтова, его друга и родственника Монго Столыпина или князя Александра Долгорукова, знакомого нам по его рисунку к стихотворению Лермонтова, трудно передать охватившее меня волнение, я как будто дышала особым воздухом удачи. Думали ли современники, что эта казенная рубрика может кого-нибудь заинтересовать, кроме отставных военных чинов? Поэт Ив. Ив.