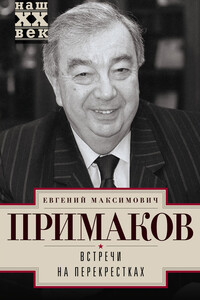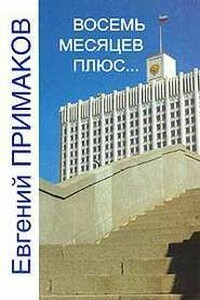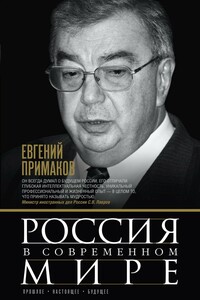Мир без России? К чему ведет политическая близорукость | страница 85
Назревал нешуточный скандал. В события оказался втянут и Совет Федерации Федерального Собрания РФ, который создал рабочую группу по оценке ситуации. На Западе, как это обычно бывает, появились статьи с предположениями, что Россия прибегнет к силе: отберет лицензию у иностранной фирмы, дело дойдет до экспроприации иностранной собственности, до громких уголовных дел. Одновременно Россию обвиняли в одностороннем – опять ненадежность! – выходе из соглашения. Тех, кто поднял шумиху, ждало разочарование. Оператору проекта «Сахалин-2» трудно было опровергнуть факты, и он, согласившись на изменение условий, уступил за справедливую цену (к такому выводу пришли аналитики Deutche UFG и другие солидные иностранные оценщики) в 7,45 млрд долларов 51 процент акций «Газпрому». Royal Dutch Shell сохраняет 27,5 процента акций, а остальные 22,5 процента принадлежат японским компаниям. Проект продолжает работать.
Если стороной конфликта в отношении проекта «Сахалин-2» было Российское государство, то от этого принципиально отличается спор, возникший между акционерами ТНК-ВР, созданной в начале 2003 года британо-американской British Petroleum и Тюменской нефтяной компанией. Они разделили акции совместной компании 50 на 50. Суть спора между частными акционерами в том, что В. Вексельберг, М. Фридман, Г. Хан и Л. Блаватник – российские совладельцы компании – настаивали на развитии бизнеса ТНК-ВР за рубежом, а британцы, напротив, хотели сконцентрироваться только на добыче российских энергоресурсов. Российских совладельцев не устраивало также, что операционный контроль за деятельностью совместной компании – у британцев. По сути, это корпоративный конфликт. Российскому государству он невыгоден, хотя это не делает его безразличным к происходящим событиям.
Тем не менее на Западе готовы были представить этот конфликт как часть общей политики России по ограничению иностранных инвестиций в разведку и добычу полезных ископаемых. При этом, как правило, не называют суть этих ограничений, в чем конкретно они проявляются. Действительно, Россия ввела обязательное согласование с правительственной комиссией сделок, в результате которых иностранные компании приобретают более 50 процентов голосующих акций предприятий, осуществляющих геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных ископаемых на участках федерального значения. Любому непредубежденному человеку ясно, что вводится ограничение на приобретение более половины голосующих акций и лишь на месторождениях федерального значения. Разве это выходит за рамки международной практики? Почему не вызывает в таком случае критику, например, заявление главы представительства Еврокомиссии в Москве Марка Франко: «Евросоюз не возражает против инвестиций крупных компаний в газораспределительные сети ЕС и в энергетический сектор в целом, однако будет настаивать на том, чтобы контрольный пакет акций находился в руках европейских государств»? От такого требования, по словам Франко, «…напрямую зависит европейская энергетическая безопасность». А разве нам не пристало заботиться о своей энергетической безопасности?