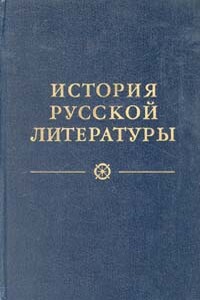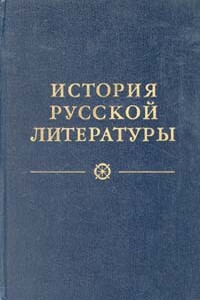Расцвет реализма | страница 29
М. Е. Салтыков отграничивает характер и миросозерцание разночинца-революционера от духовного мира «лишнего человека».
Он отдает историческое должное герою «будирования», сомнения и отрицания, рефлексии и разочарования, но считает, что герой распутья полностью исчерпал себя. Возникла необходимость и возможность положительного, активного отношения к действительности. Появилась потребность в произведениях, в которых действующие лица ставятся в положение борцов. Период уяснения типа ненужного и лишнего, скучающего и слабого человека кончился, наступил период человека деятельного, активно вторгающегося в действительность. Главная его обязанность состоит в служении народу. Н. Щедрин ведет напряженную борьбу с антинигилистическим романом, в котором идеал революционера изображался как бессмысленное разрушение. Он осуждает и трактовку «новых людей» как «нищих духом аскетов, которые всю суть дела видят в нелепой проповеди воздержания».[57] Автор «Напрасных опасений» отвергает абстрактное, книжное изображение положительных героев как людей, предающихся рассуждениям о деле, но неспособных к деятельности, Щедрин ратует за полнокровное художественное изображение представителей революционной интеллигенции. Во второй половине 70-х гг. развернулась полемика «Отечественных записок» с «Делом», где печатались (как прежде в «Русском слове») романы и повести о «новых людях». Представители «Отечественных записок» не без основания упрекали романистов «Дела» в схематизме, в отрыве от реальной жизни, в беспочвенном оптимизме, в преувеличении роли необыкновенной личности.
В 1868 г. Н. Шелгунов также опубликовал программную статью «Русские идеалы, герои и типы». Как и Н. Щедрин, Шелгунов не разделял популярной народнической теории «героев» и «толпы», считая, что историю творят массы обыкновенных людей. Критик признал, что излишнее увлечение исключительной личностью (такое увлечение отразилось в некоторых романах о «новых людях» второй половины 60-х гг.) является «злом нашего времени». Русский роман и русская публицистика должны обратиться к «коллективному, социальному человеку» и показать, «каких результатов может достигать общество при коллективных усилиях множества простых людей».[58]
В конце 60-х – начале 70-х гг. развернулась дискуссия о Решетникове, о беллетристике шестидесятников в целом. В этой дискуссии отчетливо выявились не только революционно-демократическая и либеральная точки зрения в критике, но и народнические взгляды на литературу. Н. Щедрин («Напрасные опасения») и Н. Шелгунов («Глухая пора», «Народный реализм в литературе») опираются на творчество Решетникова, когда опровергают заявления либеральной критики об «оскудении» русской литературы, подчинившейся интересам «мужика».